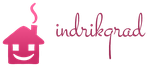
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) - выдающийся религиозный философ, поэт, публицист, литературный критик. Оставил заметный след в обсуждении многих актуальных проблем своего времени – право и нравственность, христианское государство, права человека, а также отношение к социализму, славянофильству, старообрядчеству, революции, судьбе России.
Диссертации: «Кризис западной философии (против позитивистов, «Критика отвлеченных начал».
Труды: «О праве и нравственности», «Россия и Вселенская церковь», «Оправдание добра», «Русская идея», сборник статей «Национальный вопрос в России».
Его учение противоречиво.
3 периода в творчестве (условно, Трубецкой): 1) разработка основ религиозной философии; 2) создание теократической утопии («Вселенской теократии»); 3) разочарование в теократическом учении и продолжением pa6oты над созданием системы христианской философии.
Особенность политических воззрений Соловьева – он не мыслит существования человека, общества, гос-ва без церкви или вне церкви. Поэтому политический вопрос всегда приобретает у Соловьева характер религиозно-церковного.
Убеждения Соловьева:
Право, правовые убеждения необходимы для нравственного прогресса.
- историческая миссия России состоит в том, чтобы отвергнув национальный эгоизм , стать подлинно христианским гос-вом, объединить все народы во всемирную теократию, дать вселенской церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и всего мира.
В основе христианской философии Соловьева лежат 2 исходных компонента:
теория всеединства: Бог и сотворенный им мир – единое целое. Связующее звено м/у Богом и миром – София (мировая душа). Связь Бога и мира реально обнаруживает себя в человеке. Только человек, человечество способны воплотить заложенную в мировом бытии норму всеединства и восстановить утраченную в результате грехопадения связь материальной природы и Бога.
учение о Богочеловечестве: Богочеловечество – это есть человечество, вернувшееся к Богу; своего рода совершенное человечество, преодолевшее мировое зло (людские пороки, войны, болезни, физическую смерть). Соответственно цель мировой истории – в появлении Богочеловечества, в достижении человечеством Царства Божия. История человечества рассматривается как движение человека к Богу. Центральным событием мировой истории, по Соловьеву, стало пришествие в мир Богочеловека Иисуса Христа, своей жизнью и воскресением доказавшего возможность воссоединения с Богом.
Доктрина теократии («богочеловеческое теократическое общество»)
Объединение католической и православной церквей с центром в Риме (под властью папы) и передачи светской власти русскому царю.
По Соловьеву, теократия - это «идиально-политический строй, к-ый должен установиться на всей земле и с помощью к-го человечество должно восстановить связь с Богом, т.е. стать Богочеловечеством. В этом смысле теократия - это «врата в Царство Божие». Теократия позволяет достичь подлинного всеединства, солидарности церквей, наций и классов.
В условиях теократии в полной мере реализуются христианские нормы, свобода и любовь становятся основой взаимоотношений людей, торжествует социальная справедливость, устанавливается «добрый христианский мир».
3 элемента соц. структуры теократии:
Священники (часть божия),
Князья и начальники (часть активно-человеческая)
Народ земли (часть пассивно-человеческая).
Данное деление естественно вытекает из необходимости исторического процесса и составляет органическую форму теократического общества, причем эта форма «не нарушает внутреннего существенного равенства всех с безусловной точки зрения» (т.е. равенства всех в своем человеческом достоинстве).
Необходимость личных руководителей народа обусловлена «пассивным хар-ром народной массы».
Христианская политика (фактически продолжил разработку либеральной доктрины западников).
Вне теократической утопии (консерватор) Соловьев выступает либералом, сторонником правового гос-ва.
Политическая организация есть благо природно-человеческое, необходимое для нашей жизни , как и наш физический организм. Христианство дает нам высшее благо, духовное благо и при этом не отнимает у нас низших природных благ – «и не выдергивает из под наших ног той лестницы, по которой мы идем».
Гос-во есть воплощенное право. Гос-во выводит человека из звериного состояния в сферу собственно человеческую, сферу культуры. Сдерживая мстительные инстинкты толпы, оно выступает необходимым условием прогресса.
Гос-во носит нравственный хар-р , т.к. в нем находит историческое воплощение человеческая солидарность, оно является необходимым условием осущ-я добра в мире. Общее благо требует, чтобы противоположные силы уравновешивали друг друга и их борьба не перерастала в насилие.
Гос-во явл-ся главным гарантом в обеспечении права каждого человека на достойное существование.
Сущ. признаком государства явл-ся его светский характер , свобода совести должна быть гарантирована, а церковь - отделена от государства. Государство не вправе вмешиваться в духовный мир человека.
Человек – носитель безусловной свободы. Свободу человек должен «заслужить внутренним подвигом», она не может принадлежать толпе, не м.б. «атрибутом демократии».
Права человека, вытекающие из его божественной и нравственной природы, следует юридически защищать с помощью принудительной силы гос-ва.
Право явл-ся «низшим пределом или некоторым минимумом нравственности, равно для всех обязательным». Это принудительное требование реализации определенного минимума добра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла. Задача права в том, чтобы мир не превратился в ад.
Право имеет свою абсолютную основу в Боге, религиозные и моральные нормы определяют содержание норм правовых.
Право - это связующее звено м/у религией и нравственностью, с одной стороны, и гос-вом - с др. Принудительность права не противоречит требованию религии и морали.
Право исторически изменчиво, т.к. «минимум добра» в разные эпохи не м.б. одинаковым и зависит от степени соотношения личной свободы и общего блага.
ПРОТИВОРЕЧИЕ: подлинный прогресс права и его нормальное функционирование возможны лишь при наличии христианского самодержца. В этом случае авторитет и мнение неограниченного в своей власти монарха фактически оказываются выше права.
Национальный вопрос: Все народы соединены общностью происхождения от Адама и Евы и в перспективе опять должны вернуться к состоянию единства в форме всемирной теократии. Между нациями существует вражда как зоологический факт, но Соловьев убежден в победе христианских ценностей над национальным эгоизмом.
Проблема войны: Соловьев - противник пацифизма, к-ый, по его мнению, является оборотной стороной анархизма и отсутствия чувства гражданства. Война есть зло не абсолютное, а относительное (влияние Гегеля), она выступает средством установления мира.
Позитивно оценивает завоевательные войны (Римской империи, Ал. Македонского), поскольку они расширяли круг мира, внутри к-го войны были исключены.
План
1. Общественно-политические и теоретико-методологические взгляды.
2. Схема русского исторического процесса в диссертациях С.М. Соловьева.
3. Работа над «Историей России с древнейших времен» и её структура.
4. Историческая концепция С.М. Соловьева.
Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) родился в семье священника. По окончанию гимназии он поступил в Московский университет. По окончании в 1842 г. университета Соловьев совершил заграничную поездку в качестве репетитора в семье графа А.П. Строганова. Заграничная поездка расширила знакомство Соловьева с европейской исторической наукой. Вернувшись в Россию Соловьев в 1845 г. сдал магистерские экзамены и приступил к чтению в университете лекций по русской истории.
После защиты докторской диссертации «История отношений между князьями Рюрикова дома» (1847), Соловьев был утвержден экстраординарным профессором, а в 1850 г. – ординарным профессором Московского университета. С 1871 по 1877 годы Соловьев являлся ректором Московского университета.
С.М. Соловьев, одно время испытавший влияние славянофилов, примыкал к западникам. Как и другие либералы, он крайне критически относился к характеру правления Николая I, чей режим, по мнению историка, был воплощением реакции и противодействия всему, что пережила Европа с конца XVIII века. Правда, либерализм Соловьева всегда был крайне умеренным. Осторожный в политическом отношении Соловьев подчеркивал: «перемены в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не должны вымогаться народами у правительств путем возмущений». Его политическим идеалом являлось надклассовое государство, отражавшее интересы всего общества и объединяющее отдельные сословия в направлении общей цели. В то же время он скептически относился к роли общественных сил в историческом процессе. Например, общественное движение, связанное с отменой крепостного права, которое он, кстати, считал позором России, зачастую вызывало у него неприятие, как неподготовленное к новым условиям жизни. Впоследствии он разочаруется в государственных способностях реформаторов. Определяя задачи сообщества ученых-историков, Соловьев, видимо, не придерживался мнения об аполитичности науки. Поэтому диссертации и многотомный труд «История России с древнейших времен» имели у Соловьева политическую направленность - пролиберальную.
На мировоззрение Соловьева повлияла немецкая классическая философия. Соловьев рассматривал историю как «науку народного самопознания», призванную раскрыть объективные закономерности последовательной смены основных этапов в прогрессивном развитии человечества в целом и каждого исторического народа в отдельности. Другими словами, речь шла об определении исторической судьбы русского народа. Соловьев признавал исторический процесс внутренне обусловленным, органическим, пронизанным идеями диалектического развития на основе борьбы противоречивых начал.
В отдельных поздних исследованиях 1870-х годов Соловьев, сохраняя верность гегелевской философии истории, в то же время проявил известный интерес к многофакторному анализу, характерному для позитивистского подхода, получавшего в эти годы распространение в России. Соловьев выделял три главных фактора исторического процесса: 1) географический (природа страны), 2) этнографический (этническая специфика), 3) внешний (соприкосновение с другими народами). Особенно Соловьев выделял «природу страны», что было не свойственным для исследователей того времени. В ряде случаев этот фактор приобретал у него первоочередное значение.
Соловьев утверждал, что объектом истории является народ. Однако его попытки определить условия исторической жизни народов (природные и политические, в частности) сосредоточили его внимание на определении роли государства в историческом процессе. По мысли Соловьева, именно в государстве сосредоточивались «все силы и соки народной жизни». Поэтому «для истории нет возможности иметь дело с народными массами». Попытки на материалах русской истории сбалансировать соотношение двух исторических сил в виде государства и общества, не привели историка к установлению паритета в их расстановке в созданной им исторической концепции. История народа устойчиво отождествлялась Соловьевым с историей государства.
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) оставил заметный след в обсуждении многих актуальных проблем своего времени, таких как право и нравственность, христианское государство, права человека, а также отношение к социализму, славянофильству, старообрядчеству, революции, судьбе России. В магистерской диссертации "Кризис в западной философии. Против позитивизма" (1881) он во многом опирался на критические обобщения И. В. Киреевского, на его синтез философских и религиозных идей, на идею цельности жизни, хотя и не разделял его мессианских мотивов и противопоставления русского православия всей западной мысли. Его собственная критика западноевропейского рационализма основывалась также на аргументации некоторых европейских мыслителей.
Впоследствии философ смягчил общую оценку позитивизма, ставшего в России одно время не просто модой, но вдобавок объектом идолопоклонства. В итоге "за целого Конта выдавалась только половина его учения, а другая – и по мнению учителя более значительная, окончательная – замалчивалась". Учение Конта содержало, по заключению Соловьева, "зерно великой истины" (идея человечества), правда, истины "ложно обусловленной и односторонне выраженной" (Идея человечества у Августа Конта. 1898).
Вл. Соловьев со временем стал едва ли не самым авторитетным представителем отечественной философии, в том числе философии права, много сделавшим для обоснования мысли о том, что право, правовые убеждения безусловно необходимы для нравственного прогресса. При этом он резко отмежевался от славянофильского идеализма, основанного на "безобразной смеси фантастических совершенств с дурной реальностью" и от моралистического радикализма Л. Толстого, ущербного прежде всего тотальным отрицанием права.
Будучи патриотом, он вместе с тем пришел к убеждению о необходимости преодолевать национальный эгоизм и мессианизм. "Россия обладает, быть может, важными и самобытными духовными силами, но для проявления их ей во всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны Западной Европой. Наша вне-европейская и противу-европейская самобытность всегда была и есть пустая претензия; отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха".
К числу положительных общественных форм жизни Западной Европы он относил правовое государство, правда, для него самого оно не было окончательным вариантом воплощения солидарности человеческой, а только ступенью к высшей форме общения. В этом вопросе он явно отошел от славянофилов, взгляды которых поначалу разделял.
По-другому сложилось его отношение к идеалу теократии, в обсуждении которого он отдал дань увлечения идеей вселенской теократии под началом Рима и с участием самодержавной России. В обсуждении проблем организации теократии ("богочеловеческого теократического общества") Соловьев выделяет три элемента ее социальной структуры: священники (часть божия), князья и начальники (часть активно-человеческая) и народ земли (часть пассивно-человеческая). Такое расчленение, по мнению философа, естественно вытекает из необходимости исторического процесса и составляет органическую форму теократического общества, причем эта форма "не нарушает внутреннего существенного равенства всех с безусловной точки зрения" (т. е. равенства всех в своем человеческом достоинстве). Необходимость личных руководителей народа обусловливается "пассивным характером народной массы" (История и будущность теократии. Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни. 1885–1887). Позднее философ пережил крушение своих надежд, связанных с идеей теократии.
Более плодотворными и перспективными оказались его обсуждения темы социального христианства и христианской политики. Здесь он фактически продолжил разработку либеральной доктрины западников. Соловьев полагал, что истинное христианство должно быть общественным, что вместе с индивидуальным душеспасением оно требует социальной активности, социальных реформ. Эта характеристика составила главную исходную идею его моральной доктрины и нравственной философии (Оправдание добра.1897).
Политическая организация в представлении Соловьева есть по преимуществу благо природно-человеческое, столь же необходимое для нашей жизни, как и наш физический организм. Христианство дает нам высшее благо, духовное благо и при этом не отнимает у нас низших природных благ – "и не выдергивает из-под наших ног той лестницы, по которой мы идем" (Оправдание добра).
Здесь особое значение призвано иметь христианское государство и христианская политика. "Христианское государство, если оно не остается пустым именем, должно иметь определенное отличие от государства языческого, хотя бы они, как государства, имеют одинаковую основу и общую основу". Существует, подчеркивает философ, нравственная необходимость государства. Сверх общей и сверх традиционной охранительной задачи, которую обеспечивает всякое государство (охранять основы общения, без которых человечество не могло бы существовать), христианское государство имеет еще прогрессивную задачу – улучшить условия этого существования, содействующие "свободному развитию всех человеческих сил, которые должны стать носительницами грядущего Царства Божия".
Правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стесняло внутренний мир человека, предоставляя его свободному духовному действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия "для достойного существования и совершенствования людей".
Другой важный аспект политической, организации и жизни составляет характер взаимоотношений государства и церкви. Здесь у Соловьева прослеживаются контуры концепции, которая впоследствии получит название концепции социального государства. Именно государство должно, по мнению философа, стать главным гарантом в обеспечении права каждого человека на достойное существование. Нормальная связь церкви и государства находит свое выражение в "постоянном согласии их высших представителей"– первосвятителя и царя". Рядом с этими носителями безусловного авторитета и безусловной власти должен быть в обществе и носитель безусловной свободы – человек. Эта свобода не может принадлежать толпе, она не может быть "атрибутом демократии" – настоящую свободу человек должен "заслужить внутренним подвигом".
Право свободы основано на самом существе человека и должно быть обеспечено извне государством. Правда, степень осуществления этого права есть нечто такое, что всецело зависит от внутренних условий, от степени достигнутого нравственного сознания. Французская революция имела бесспорный ценный опыт в этой области, что было связано с "объявлением человеческих прав". Это объявление было исторически новым по отношению не только к древнему миру и Средним векам, но также и позднейшей Европе. Но в этой революции было два лика – "провозглашение человеческих прав сначала, а затем неслыханное систематическое попирание всех таких прав революционными властями". Из двух начал – "человек" и "гражданин", бессвязно, по мнению Соловьева, сопоставленных рядом, вместо того чтобы второго подчинить первому, низший принцип ("гражданин") как более конкретный и наглядный оказался на деле более сильным и вскоре "заслонил собою высший, а затем и поглотил по необходимости". Нельзя было в формуле человеческих прав добавлять после "права человека" фразу "и гражданина", поскольку тем самым смешивалось разнородное и ставилось на одну доску "условное с безусловным". Нельзя в здравом уме сказать даже преступнику или душевнобольному "Ты не человек!", но гораздо легче произнести "Еще вчера ты был гражданином". (Идея человечества у Августа Конта.)
Для правопонимания Соловьева помимо общего уважительного отношения к идее права (праву как ценности) характерно еще стремление выделить и оттенить нравственную ценность права, правовых институтов и принципов. Такая позиция отражена у него и в самом определении права, согласно которому право является прежде всего "низшим пределом или некоторым минимумом нравственности, равно для всех обязательным" (Право и нравственность. Очерки по прикладной этике. 1899).
Естественное право для него не есть некое обособленное натуральное право, предшествующее исторически праву положительному. Не составляет оно и нравственного критерия для последнего, как, например, у Е. Н. Трубецкого. Естественное право у Соловьева, как и у Конта, есть формальная идея права, рационально выведенная из общих принципов философии. Естественное право и положительное право для него лишь две различные точки зрения на один и тот же предмет.
При этом естественное право воплощает "рациональную сущность права", а право положительное олицетворяет историческую явленность права. Последнее является правом, реализованным в зависимости "от состояния нравственного сознания в данном обществе и от других исторических условий". Понятно, что эти условия предопределяют особенности постоянного дополнения естественного права правом положительным.
"Естественное право есть та алгебраическая формула, под которую история подставляет различные действительные величины положительного права". Естественное право сводится всецело к двум факторам – свободе и равенству, т. е. оно, собственно, и являет собой алгебраическую формулу всякого права, его рациональную (разумную) сущность. При этом этический минимум, о котором говорилось ранее, присущ не одному естественному праву, но и положительному.
Свобода есть необходимый субстрат, а равенство – его необходимая формула. Цель нормального общества и права составляет общественное благо. Эта цель есть общая, а не коллективная только (не сумма отдельных целей). Эта общая цель по существу своему внутренне соединяет всех и каждого. Соединение всех и каждого происходит при этом благодаря солидарным действиям в достижении общей цели. Право стремится осуществить справедливость, но стремление это лишь общая тенденция, "логос" и смысл права.
Право положительное лишь воплощает и реализует (иногда не вполне совершенно) в конкретные формы эту общую тенденцию. Право (справедливость) пребывает в таком соотношении с религиозной моралью (любовью), в каком пребывают государство и церковь. При этом любовь есть нравственный принцип церкви, а справедливость есть нравственный принцип государства. Право в отличие от "норм любви, религии" предполагает принудительное требование реализации минимального добра.
"Понятие права по самой своей природе заключает в себе элемент объективный или требование реализации". Необходимо, чтобы право всегда имело силу осуществиться, т. е. чтобы свобода других "независимо от моего субъективного ее признания или от моей личной справедливости всегда могла на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми". Право в его историческом измерении предстает "исторически-подвижным определением необходимого принудительного равновесия двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага". То же самое в другой формулировке раскрывается как равновесие между формально-нравственным интересом личной свободы и материально-нравственным интересом общего блага.
Правопонимание Соловьева оказало заметное влияние на правовые взгляды Новгородцева, Трубецкого, Булгакова, Бердяева, а также на общий ход дискуссий по вопросам взаимоотношений церкви и государства периода "русского религиозного ренессанса" (первое десятилетие XX в.).
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) был одним из авторитетных участников русского религиозного возрождения начала века, инициатором создания Академии духовной культуры (1918–1922). В 1922 г. был выслан из РСФСР, жил во Франции, издавал журнал "Путь" (1925–1940), много писал сам и печатался практически на всех европейских и многих восточных языках. Вырос в семье военных, ведущей свое начало из древнего русского дворянского рода и татарских родов, графского рода Шуазель и от потомков французских королей. За участие в социалистическом кружке он был отчислен из Университета святого Владимира в Киеве и выслан в Вологодскую губернию. В ссылке встречался с Б. Савинковым, Г. Плехановым, А. Луначарским и другими будущими видными деятелями революционного движения. Университетское образование оборвалось навсегда, но Бердяев сумел стать на редкость образованным человеком, избирался профессором Московского университета. Перейдя от либерального марксизма на позиции идеализма, он обратился к поискам "нового пути" в религиозном сознании и проблемам историософского и эсхатологического характера. Он занимался также построением своеобразной версии персоналистской философии, сделавшей его признанным авторитетом в области философии эксистенциализма.
Вместе с С. Булгаковым, П. Струве и С. Франком Бердяев был участником всех трех манифестов русских философов-идеалистов первой четверти века – сборников "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918). Их иногда называют манифестами "веховства". Эти публикации стали, по сути дела, внешней фиксацией движения от либерального марксизма через своеобразный нравственный либерализм к национально-патриотическому воззрению в духе либерального консерватизма с такими его устоями, как религия, идеализм, либерализм, патриотизм, традиционализм и народоправство.
Основная тема сборника "Вехи", вышедшего после революции 1905 г., фокусировалась на призыве разорвать с традициями Бакунина, Чернышевского, Лаврова и Михайловского, которые вели страну к бездне, и вернуться к объективным основам русской истории и к традиции, представленной именами Чаадаева, Достоевского и Вл. Соловьева. К этой теме Бердяев обращался и в последующие годы.
Характеризуя взаимоотношения марксизма и русского революционного движения, именуемого им часто также русским коммунизмом, Бердяев в брошюре 1929г. "Марксизм и религия (Религия как орудие господства и эксплуатации)" писал, что марксизм представляет собой в любом случае "очень серьезное явление в исторических судьбах человечества". При этом он считал, что "классический марксизм очень устарел и уже совершенно не соответствует ни современной социальной действительности, ни современному уровню научных и философских знаний". Марксизм претендует быть цельным миросозерцанием, отвечающим на все основные вопросы жизни, дающим смысл жизни. Он есть и политика, и мораль, и наука, и философия. Он есть религия – новая религия, идущая на смену христианской. Марксизм вдохновлен и вдохновляем возрастанием организованной власти социального коллектива над миром. В отличие от русского народнического социализма, который вдохновлялся состраданием к народу и жертвой во имя его освобождения и спасения, марксистский социализм, согласно Бердяеву, вдохновляется силой и властью над миром со стороны пролетариата. "Сильный и властвующий над миром, организованный пролетариат и есть земной Бог, который должен заменить Бога христианского и убить в человеческой душе все старые религиозные верования". Мессианская роль пролетариата составляет основной миф марксизма. Кошмар русского марксизма заключается прежде всего в том, что он несет с собой смерть человеческой свободе. Коммунизм есть отрицание не только бога, но и человека, и оба эти отрицания между собой связаны.
Тему о власти и об оправданности государства Бердяев называл "очень русской темой" и соглашался с К. Леонтьевым в том, что русская государственность с сильной властью была создана благодаря татарскому и немецкому элементу. Развивая эту тему в "Истоках и смысле русского коммунизма" (1937), Бердяев писал, что в русской истории мы видим "пять разных Россий" – Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую, советскую Россию. Он считал весьма характерным то обстоятельство, что анархизм как теория и практика был созданием главным образом русских, а сама анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русского дворянства – таков был главный и самый крайний анархист Бакунин, таков князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л. Толстой.
Зло и грех всякой власти, считал Бердяев, русские чувствуют сильнее, чем западные люди. Но может удивлять противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и русской покорностью государству, согласием народа служить образованию огромной империи. Возрастание государственного могущества, высасывающего все соки из народа, имело обратной стороной русскую вольницу, уход из государства, физический или духовный. Русский раскол – основное явление русской истории. На почве раскола образовались анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывался тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист.
Русский коммунизм в Советской России, по оценке Бердяева, явился извращением русской мессианской идеи. Русский коммунизм утверждает свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и своя ложь. Правда – социальная, раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов; ложь – в духовных основах, которые приводят к процессу дегуманизации, к отрицанию ценности всякого человека, к сужению человеческого сознания, которое уже наблюдалось в русском нигилизме. Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. "Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл".
Революционность, по Бердяеву, состоит в радикальном уничтожении прогнившего, изолгавшегося и дурного прошлого, но нельзя уничтожить вечноценного, подлинного в прошлом. Так, наиболее ценные положительные черты русского человека, обнаруженные им в годы революции и войны, – необыкновенная жертвенность, выносливость к страданию, дух коммюнотарности (общежительности) – есть христианские черты, выработанные христианством. Противоположностью такой революции является, революционная утопия, которая, к сожалению, также имеет шанс стать реальностью. "Утопии, к несчастью, осуществимы. И, может быть, настанет время, когда человечество будет ломать голову над тем, как избавиться от утопий". Последняя мысль пленила известного английского создателя романов-антиутопий Олдоса Хаксли, который взял ее эпиграфом к роману "Этот бесстрашный новый мир".
Бердяев вошел в историю русской политической мысли восприемником традиций социально-критической философии, всегда отличавшейся в лучших своих образцах повышенной чуткостью к болезням века и своего общественного окружения. В первой половине века Россию многие изучали по Бердяеву, а его самого называли то апостолом, то пленником свободы, то мятежным пророком, нетерпимым к раболепию и компромиссам. Он и сам признавался, что всю свою жизнь вел борьбу за свободу и что все столкновения с людьми и направлениями происходили у него из-за свободы.
Свое политическое кредо Бердяев изложил в главе автобиографии, посвященной вопросам революции и социализма. "Все политическое устройство этого мира, – писал он, – рассчитано на среднего, ординарного, массового человека, в котором нет ничего творческого. На этом основаны государство, объективная мораль, революции и контрреволюции. Вместе с тем есть божественный луч во всяком освобождении. Революции я считаю неизбежными. Они фатальны при отсутствии или слабости творческих духовных сил, способных радикально реформировать и преобразовать общество. Но всякое государство и всякая революция, всякая организация власти подпадает господству князя мира сего".
В отличие от Вл. Соловьева Бердяев недвусмысленно высказывал свое глубокое сомнение в возможности существования "христианского государства" по той причине, что само христианство лишь "оправдывает и освящает государство" и государственная власть сама по себе явление порядка "природного, а не благодатного". Кроме того, всякое государство по природе своей явление также и двусмысленное – оно имеет положительную миссию ("ненапрасное, провиденциальное" значение) и вместе с тем эту самую миссию оно "извращает греховной похотью власти и всякой неправдой" (Философия неравенства. 1923).
Социализм и анархизм – как последние соблазны человечества – в конце концов "доходят до небытия" в силу своей жажды равенства (социализм), либо в своей жажде свободы (анархизм). Более долговечную ценность представляют собой в этой связи церковь (она призвана "охранять образ человека" от демонов природы), государство (оно "защищает образ человека от звериных стихий" и от "переходящей все пределы злой воли"), право (оно "охраняет свободу человека от злой воли людей и всего общества"), закон (он изобличает грех, ставит ему пределы, "делает возможным минимум свободы в греховной человеческой жизни").
Психологическая школа права в России во второй половине ХIХ-начале ХХ вв.
Политический консерватизм в России во второй половине ХIХ-начале ХХ вв.
Взгляды поздних славянофилов отмечены в целом патриотическим культурнационализмом и возросшей мерой недоверия к европейскому политическому опыту с его представительным правлением, идеей равенства и почтительным отношением и правам и свободам человека и гражданина.
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885)в книге «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (1871) развивал теорию культурно-исторических типов человеческой цивилизации. Он считал, что никакие особые гарантии политических и гражданских прав невозможны, кроме тех, которые верховная власть захочет предоставить своему народу. Данилевский высмеивал идею «социального русского парламента», но в отличие от других неославянофилов высоко оценивал значение свободы слова, считая ее не привилегией, а естественным правом.
Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891)был озабочен опасностью перемен для самобытности и цельности народного организма, и прежде всего – опасностями надвигающегося эгалитарно-либерального прогресса. Леонтьев разделял позицию автора «России и Европы» в том отношении, что вся история состоит всего лишь из смены культурных типов, причем каждый из них «имел свое назначение и оставил по себе особые неизгладимые следы. Обсуждая тему „русской государственности“, Леонтьев был склонен выводить ее природу из византийского и отчасти европейского наследия. Оценки ситуации в России и Европе строились Леонтьевым на основе анализа тенденций и общих закономерностей жизни государственных организмов, которые они обнаружили в ходе социальной истории. В начале развития государства всего сильнее проявляет себя аристократическое начало, в середине жизни государственного организма появляется тенденция к единоличной власти и лишь „к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало“. В российской истории – „великорусской жизни и государственной жизни“ – он видел глубокое проникновение византизма, т. е. единства сильной государственности с церковью.
Среди великих русских писателей, оставивших заметный след в истории социальной и политической мысли, значительное место занимает Ф. М. Достоевский (1821–1881).Ему принадлежат слова: «У нас – русских две родины: наша Русь и Европа» (в заметке по поводу кончины Жорж Санд). Позднее Достоевский значительно изменил это мнение, особенно после поездки в Европу, и стал солидарен с Ив. Аксаковым в восприятии Европы как «кладбища», признавая ее не только «гниющей», но уже «мертвой» – разумеется, для «высшего взгляда». Однако его отрицание не выглядело окончательным – он сохранял веру в возможность «воскрешения всей Европы» благодаря России (в письме к Страхову, 1869 г.). Достоевским поставлен и освещен вопрос о соотношении материальных и духовных потребностей человека в процессе радикальных социальных перемен, о противоречии между «хлебом и свободой». Русская религиозно-философская мысль в лице Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, К. Леонтьева, а позднее С. Булгакова и Н. Бердяева предприняла весьма оригинальную попытку синтезировать все современные им идеи о роли России во всемирно-историческом процессе и об особенностях усвоения ценностей европейской культуры. Осуществление этого замысла на практике все же отмечено печатью односторонности: у Достоевского в силу преобладания почвенных ориентации, у Соловьева в силу утопичности замыслов, у Бердяева в силу обнаруженной им и сильно преувеличенной в своем влиянии «глубокой антиномии» в русской жизни и русском духе.
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900)оставил заметный след в обсуждении многих актуальных проблем своего времени – право и нравственность, христианское государство, права человека, а также отношение к социализму, славянофильству, старообрядчеству, революции, судьбе России.
Вл. Соловьев со временем стал едва ли не самым авторитетным представителем отечественной философии, в том числе философии права, много сделавшим для обоснования мысли о том, что право, правовые убеждения безусловно необходимы для нравственного прогресса. При этом он резко отмежевался от славянофильского идеализма, основанного на «безобразной смеси фантастических совершенств с дурной реальностью» и от моралистического радикализма Л. Толстого, ущербного прежде всего тотальным отрицанием права. Будучи патриотом, он вместе с тем пришел к убеждению о необходимости преодолевать национальный эгоизм и мессианизм. К числу положительных общественных форм жизни Западной Европы он относил правовое государство, правда, для него самого оно не было окончательным вариантом воплощения солидарности человеческой, а только ступенью к высшей форме общения. В этом вопросе он явно отошел от славянофилов, взгляды которых поначалу разделял. Плодотворными и перспективными оказались его обсуждения темы социального христианства и христианской политики. Здесь он фактически продолжил разработку либеральной доктрины западников. Соловьев полагал, что истинное христианство должно быть общественным, что вместе с индивидуальным душеспасением оно требует социальной активности, социальных реформ. Эта характеристика составила главную исходную идею его моральной доктрины и нравственной философии. Политическая организация в представлении Соловьева есть по преимуществу благо природно-человеческое, столь же необходимое для нашей жизни, как и наш физический организм. Здесь особое значение призвано иметь христианское государство и христианская политика. Существует, подчеркивает философ, нравственная необходимость государства. Сверх общей и сверх традиционной охранительной задачи, которую обеспечивает всякое государство, христианское государство имеет еще прогрессивную задачу – улучшить условия этого существования, содействующие «свободному развитию всех человеческих сил, которые должны стать носительницами грядущего Царства Божия».
Правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стесняло внутренний мир человека, предоставляя его свободному духовному действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия «для достойного существования и совершенствования людей».
Другой важный аспект политической организации и жизни составляет характер взаимоотношений государства и церкви. Здесь у Соловьева прослеживаются контуры концепции, которая впоследствии получит название концепции социального государства. Именно государство должно, по мнению философа, стать главным гарантом в обеспечении права каждого человека на достойное существование. Нормальная связь церкви и государства находит свое выражение в «постоянном согласии их высших представителей – первосвятителя и царя». Рядом с этими носителями безусловного авторитета и безусловной власти должен быть в обществе и носитель безусловной свободы – человек. Эта свобода не может принадлежать толпе, она не может быть «атрибутом демократии» – настоящую свободу человек должен «заслужить внутренним подвигом». Правопонимание Соловьева оказало заметное влияние на правовые взгляды Новгородцева, Трубецкого, Булгакова, Бердяева.
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) оставил заметный след в обсуждении многих актуальных проблем своего времени, таких как право и нравственность, христианское государство, права человека, а также отношение к социализму, славянофильству, старообрядчеству, революции, судьбе России. В магистерской диссертации "Кризис в западной философии. Против позитивизма" (1881) он во многом опирался на критические обобщения И. В. Киреевского, на его синтез философских и религиозных идей, на идею цельности жизни, хотя и не разделял его мессианских мотивов и противопоставления русского православия всей западной мысли. Его собственная критика западноевропейского рационализма основывалась также на аргументации некоторых европейских мыслителей.
Впоследствии философ смягчил общую оценку позитивизма, ставшего в России одно время не просто модой, но вдобавок объектом идолопоклонства. В итоге "за целого Конта выдавалась только половина его учения, а другая – и по мнению учителя более значительная, окончательная – замалчивалась". Учение Конта содержало, по заключению Соловьева, "зерно великой истины" (идея человечества), правда, истины "ложно обусловленной и односторонне выраженной" (Идея человечества у Августа Конта. 1898).
Вл. Соловьев со временем стал едва ли не самым авторитетным представителем отечественной философии, в том числе философии права, много сделавшим для обоснования мысли о том, что право, правовые убеждения безусловно необходимы для нравственного прогресса. При этом он резко отмежевался от славянофильского идеализма, основанного на "безобразной смеси фантастических совершенств с дурной реальностью" и от моралистического радикализма Л. Толстого, ущербного прежде всего тотальным отрицанием права.
Будучи патриотом, он вместе с тем пришел к убеждению о необходимости преодолевать национальный эгоизм и мессианизм. "Россия обладает, быть может, важными и самобытными духовными силами, но для проявления их ей во всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны Западной Европой. Наша вне-европейская и противу-европейская самобытность всегда была и есть пустая претензия; отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха".
К числу положительных общественных форм жизни Западной Европы он относил правовое государство, правда, для него самого оно не было окончательным вариантом воплощения солидарности человеческой, а только ступенью к высшей форме общения. В этом вопросе он явно отошел от славянофилов, взгляды которых поначалу разделял.
По-другому сложилось его отношение к идеалу теократии, в обсуждении которого он отдал дань увлечения идеей вселенской теократии под началом Рима и с участием самодержавной России. В обсуждении проблем организации теократии ("богочеловеческого теократического общества") Соловьев выделяет три элемента ее социальной структуры: священники (часть божия), князья и начальники (часть активно-человеческая) и народ земли (часть пассивно-человеческая). Такое расчленение, по мнению философа, естественно вытекает из необходимости исторического процесса и составляет органическую форму теократического общества, причем эта форма "не нарушает внутреннего существенного равенства всех с безусловной точки зрения" (т. е. равенства всех в своем человеческом достоинстве). Необходимость личных руководителей народа обусловливается "пассивным характером народной массы" (История и будущность теократии. Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни. 1885–1887). Позднее философ пережил крушение своих надежд, связанных с идеей теократии.
Более плодотворными и перспективными оказались его обсуждения темы социального христианства и христианской политики. Здесь он фактически продолжил разработку либеральной доктрины западников. Соловьев полагал, что истинное христианство должно быть общественным, что вместе с индивидуальным душеспасением оно требует социальной активности, социальных реформ. Эта характеристика составила главную исходную идею его моральной доктрины и нравственной философии (Оправдание добра.1897).
Политическая организация в представлении Соловьева есть по преимуществу благо природно-человеческое, столь же необходимое для нашей жизни, как и наш физический организм. Христианство дает нам высшее благо, духовное благо и при этом не отнимает у нас низших природных благ – "и не выдергивает из-под наших ног той лестницы, по которой мы идем" (Оправдание добра).
Здесь особое значение призвано иметь христианское государство и христианская политика. "Христианское государство, если оно не остается пустым именем, должно иметь определенное отличие от государства языческого, хотя бы они, как государства, имеют одинаковую основу и общую основу". Существует, подчеркивает философ, нравственная необходимость государства. Сверх общей и сверх традиционной охранительной задачи, которую обеспечивает всякое государство (охранять основы общения, без которых человечество не могло бы существовать), христианское государство имеет еще прогрессивную задачу – улучшить условия этого существования, содействующие "свободному развитию всех человеческих сил, которые должны стать носительницами грядущего Царства Божия".
Правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стесняло внутренний мир человека, предоставляя его свободному духовному действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия "для достойного существования и совершенствования людей".
Другой важный аспект политической, организации и жизни составляет характер взаимоотношений государства и церкви. Здесь у Соловьева прослеживаются контуры концепции, которая впоследствии получит название концепции социального государства. Именно государство должно, по мнению философа, стать главным гарантом в обеспечении права каждого человека на достойное существование. Нормальная связь церкви и государства находит свое выражение в "постоянном согласии их высших представителей"– первосвятителя и царя". Рядом с этими носителями безусловного авторитета и безусловной власти должен быть в обществе и носитель безусловной свободы – человек. Эта свобода не может принадлежать толпе, она не может быть "атрибутом демократии" – настоящую свободу человек должен "заслужить внутренним подвигом".
Право свободы основано на самом существе человека и должно быть обеспечено извне государством. Правда, степень осуществления этого права есть нечто такое, что всецело зависит от внутренних условий, от степени достигнутого нравственного сознания. Французская революция имела бесспорный ценный опыт в этой области, что было связано с "объявлением человеческих прав". Это объявление было исторически новым по отношению не только к древнему миру и Средним векам, но также и позднейшей Европе. Но в этой революции было два лика – "провозглашение человеческих прав сначала, а затем неслыханное систематическое попирание всех таких прав революционными властями". Из двух начал – "человек" и "гражданин", бессвязно, по мнению Соловьева, сопоставленных рядом, вместо того чтобы второго подчинить первому, низший принцип ("гражданин") как более конкретный и наглядный оказался на деле более сильным и вскоре "заслонил собою высший, а затем и поглотил по необходимости". Нельзя было в формуле человеческих прав добавлять после "права человека" фразу "и гражданина", поскольку тем самым смешивалось разнородное и ставилось на одну доску "условное с безусловным". Нельзя в здравом уме сказать даже преступнику или душевнобольному "Ты не человек!", но гораздо легче произнести "Еще вчера ты был гражданином". (Идея человечества у Августа Конта.)
Для правопонимания Соловьева помимо общего уважительного отношения к идее права (праву как ценности) характерно еще стремление выделить и оттенить нравственную ценность права, правовых институтов и принципов. Такая позиция отражена у него и в самом определении права, согласно которому право является прежде всего "низшим пределом или некоторым минимумом нравственности, равно для всех обязательным" (Право и нравственность. Очерки по прикладной этике. 1899).
Естественное право для него не есть некое обособленное натуральное право, предшествующее исторически праву положительному. Не составляет оно и нравственного критерия для последнего, как, например, у Е. Н. Трубецкого. Естественное право у Соловьева, как и у Конта, есть формальная идея права, рационально выведенная из общих принципов философии. Естественное право и положительное право для него лишь две различные точки зрения на один и тот же предмет.
При этом естественное право воплощает "рациональную сущность права", а право положительное олицетворяет историческую явленность права. Последнее является правом, реализованным в зависимости "от состояния нравственного сознания в данном обществе и от других исторических условий". Понятно, что эти условия предопределяют особенности постоянного дополнения естественного права правом положительным.
"Естественное право есть та алгебраическая формула, под которую история подставляет различные действительные величины положительного права". Естественное право сводится всецело к двум факторам – свободе и равенству, т. е. оно, собственно, и являет собой алгебраическую формулу всякого права, его рациональную (разумную) сущность. При этом этический минимум, о котором говорилось ранее, присущ не одному естественному праву, но и положительному.
Свобода есть необходимый субстрат, а равенство – его необходимая формула. Цель нормального общества и права составляет общественное благо. Эта цель есть общая, а не коллективная только (не сумма отдельных целей). Эта общая цель по существу своему внутренне соединяет всех и каждого. Соединение всех и каждого происходит при этом благодаря солидарным действиям в достижении общей цели. Право стремится осуществить справедливость, но стремление это лишь общая тенденция, "логос" и смысл права.
Право положительное лишь воплощает и реализует (иногда не вполне совершенно) в конкретные формы эту общую тенденцию. Право (справедливость) пребывает в таком соотношении с религиозной моралью (любовью), в каком пребывают государство и церковь. При этом любовь есть нравственный принцип церкви, а справедливость есть нравственный принцип государства. Право в отличие от "норм любви, религии" предполагает принудительное требование реализации минимального добра.
"Понятие права по самой своей природе заключает в себе элемент объективный или требование реализации". Необходимо, чтобы право всегда имело силу осуществиться, т. е. чтобы свобода других "независимо от моего субъективного ее признания или от моей личной справедливости всегда могла на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми". Право в его историческом измерении предстает "исторически-подвижным определением необходимого принудительного равновесия двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага". То же самое в другой формулировке раскрывается как равновесие между формально-нравственным интересом личной свободы и материально-нравственным интересом общего блага.
Правопонимание Соловьева оказало заметное влияние на правовые взгляды Новгородцева, Трубецкого, Булгакова, Бердяева, а также на общий ход дискуссий по вопросам взаимоотношений церкви и государства периода "русского религиозного ренессанса" (первое десятилетие XX в.).