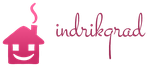
Красной армии пришлось гоняться за врагом еще три года после взятия Владивостока
Принято считать, что Гражданская война в России завершилась 25 октября 1922 года с выходом Красной армии к Тихому океану во Владивостоке. На самом деле кровопролитные бои длились еще целых три года и стихли лишь в самом конце 1925-го. Братоубийственная война была наконец остановлена ровно 90 лет назад.
Бунты коренных народов против советской власти проходили с 1921 по 1925 год в Якутии и Приамурье, на Камчатке, Чукотке и в Корякии. А на севере Сахалина до 1925-го еще и хозяйничали японские интервенты. Значительную часть Дальнего Востока в эти годы сотрясала партизанская война местного населения с большевиками. Повсеместно восставших аборигенов поддерживали казаки и остатки белогвардейских частей. Все мятежи безжалостно подавлялись чекистами и красноармейцами. Самым крупным и масштабным считается эвенкийское восстание с созданием Тунгусской республики. При этом и белые, и красные отправлялись воевать на север именно из Владивостока.
Восстановить историю той поры корреспонденту «В» помогал сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников.
Жаркий север
Что же представляла собой тихоокеанская окраина России в начале 1920-х? После падения Иркутска и расстрела адмирала Колчака Красная армия быстро добралась до Якутска и начала штыками насаждать рабоче-крестьянскую власть. Местное население стало роптать. В 1921 – 1923 годах по Якутии прокатилась волна мятежей. Во главе взбунтовавшихся вставали опытные офицеры. В результате там развернулось полноценное белое партизанское движение. Кровопролитные бои велись в Якутске, Верхоянске, Нелькане.
В Охотске с апреля 1920-го держался небольшой отряд белогвардейского капитана Яныгина, а через год туда из Владивостока прибыла экспедиция казаков войскового старшины Бочкарева, которая также высадила гарнизон в Аяне и заняла Петропавловск-Камчатский. Позже они выступили в поход на Якутск, но безуспешно. Постепенно арена сражений переместилась на северо-западное побережье Охотского моря и в восточную часть Якутии.
Тем временем красные последовательно зачищали Дальний Восток, Уборевич готовился к последнему рывку к берегам Золотого Рога. К этому моменту основная масса белых была уже выдавлена в Китай. Тогда-то генералу Дитерихсу во Владивостоке пришла в голову идея отделить от России северо-восточную Сибирь. Для этого необходимо было перебросить десант из Приморья на берега Охотского моря и создать там центр нового восстания против красных. Тем более что местное население желало того же. Предполагался марш по бездорожью на 800 км в глубину континента и захват Якутска.
Ледяной поход
Экспедицию возглавил 30-летний генерал Анатолий Пепеляев, перебравшийся к тому времени в Харбин. Когда ему предложили совершить «ледяной поход», он собрал под свои знамена только умевших профессионально воевать добровольцев. Всего в отряде было 730 человек, включая 13 генералов и полковников. Правда, они испытывали большой недостаток в оружии, пулеметов было всего два.
Отплыв из Владивостока, группа Пепеляева в конце августа 1922 года высадилась в Охотске и Аяне. В Аяне состоялся народный сход окрестных тунгусов и местных русских, которые выделили повстанцам три сотни оленей с нартами для передвижения через тундру. Когда вторая партия десанта еще только собиралась стартовать из Владивостока, Пепеляев уже двигался в глубину континента. Из-за бездорожья отряд шел медленно, с трудом преодолевая болота и реки.
Пароходы со второй волной десанта прибыли в Охотск только в ноябре. К этому моменту во Владивостоке белые были уже окончательно разгромлены. Так молодой генерал из командира диверсионного отряда превратился в лидера основной военной силы белых в России. За спиной больше не было никого.
По ходу продвижения к Пепеляеву присоединялись отряды белых партизан, в итоге набралось около 800 штыков. Дисциплина была образцовой, обмороженных не было, хотя марши совершались при температуре за минус 30 градусов. Последний перед Якутском поселок Амга атаковали стылой ночью 2 февраля 1923 года и взяли его штурмом, перебив небольшой гарнизон красных.
Латышский стрелок
Силы красных в тех местах оценивались примерно в 3 тысячи бойцов в общей сложности. В авангарде был боеспособный отряд Ивана Строда в 400 штыков с пулеметами.
Пепеляев первым делом решил уничтожить отряд Строда. Красные засели в зимовье Сасыл-Сысыы, окопались и приготовились к круговой обороне. Первая атака произошла 13 февраля. 14 суток Пепеляев отчаянно штурмовал несколько домишек. Окруженные красные ощетинились пулеметами и отчаянно отбивались. Не добившись успеха, белые начали отступление обратно к Охотскому морю.
Тем временем два других красных отряда под командованием Байкалова и Курашева, собрав вместе 760 штыков с пушками и пулеметами, атаковали Амгу. Группа из 150 бойцов, оставленная там Пепеляевым, потеряла больше половины людей и была вынуждена отступить. В бою погиб брат Байкалова, и это предопределило печальную судьбу попавших в плен офицеров. Их тут же расстреляли.
Ликвидация
Для подавления белых мятежей советская власть отправляла из Владивостока в Охотск и Аян на кораблях Морских сил Дальнего Востока (предшественник ТОФ) отряды красноармейцев. В апреле 1923 года на пароходах «Ставрополь» и «Индигирка» вышел отряд 1-й Забайкальской дивизии. Им командовал талантливый военачальник Степан Вострецов.
Переход совершался в трудных условиях. Льды почти на месяц затерли пароходы в Охотском море. Не хватало воды, продовольствия. Когда ледовый плен закончился, «Ставрополь» и «Индигирка» скрытно подошли к побережью.
В Охотске все решилось само собой, без вмешательства красных. Сподвижник Пепеляева генерал Ракитин в начале июня 1923-го готовил северный городок к осаде, но Охотск пал благодаря восстанию рабочих. Ракитин застрелился.
Сам Пепеляев с остатками дружины собрался в Аяне. Вместе с примкнувшими якутами под его началом оставалось 640 человек. Генерал принял решение уходить с побережья Охотоморья обратно в Китай морем, для чего нужно было строить лодки. Однако времени уже не было.
15 июня в 40 км от Аяна высадился десант Вострецова и скрытно сосредоточился у городка. Через два дня он атаковал Аян и быстро захватил штаб. Пепеляев, желая предотвратить кровопролитие, отдал подчиненным приказ сложить оружие.
Этот приказ исполнили не все. Полковник Степанов собрал около сотни бойцов, за несколько часов подготовился к походу и ушел в леса, конец отряда неизвестен. Другой полковник, Леонов, во главе группы в дюжину человек ушел по берегу на север, сумел связаться с японскими рыбаками и с их помощью перебрался в Японию. Еще один полковник, Андерс, тоже попытался прорваться, но в итоге все же сдался. Всего в плен попало 356 человек во главе с Пепеляевым.
Тунгусская республика
Но и на этом борьба с Советами не закончилась. В мае 1924 года на востоке Якутии началось новое восстание. Оно было вызвано неоправданными действиями местных властей: закрытием портов для иностранной торговли, перебоями с завозом товаров с материка, конфискацией оленей у частных владельцев, изъятием обширных пастбищ.
Восставшие заняли поселок Нелькан, который стал базой повстанцев. Здесь разместилась группировка численностью до 300 человек во главе с эвенком из знатного рода Павлом Карамзиным. В июне его отряд взял Аян. На съезде тунгусов и якутов было избрано временное управление, решившее отделиться от РСФСР.
В 1925 году восставшие заключили перемирие с советскими властями и сложили оружие. Многие видные повстанцы были включены в состав советских руководящих органов. Но уже через два года началась политика «закручивания гаек», в результате которой все бывшие руководители восстания были репрессированы, многие из них казнены.
Но и это еще не стало окончанием Гражданской войны.
Боевой поход «Красного вымпела»
В начале июля 1923 года из Владивостока на северо-восток вышел в море сторожевик «Красный вымпел». Он посетил многие бухты Камчатки. Моряки приняли активное участие в установлении советской власти в отдаленных районах Дальнего Востока. Десант с «Красного вымпела» разгромил отряд белогвардейцев в заливе Корфа, вел бои с белыми на западном побережье Охотского моря.
Осенью следующего года сторожевик вновь отправился в северные широты для уничтожения многочисленного белогвардейского отряда штабс-капитана Григорьева. Именно этот офицер принимал участие в создании Тунгусской республики. Ему удалось привлечь на свою сторону немало якутов, тунгусов, нанайцев, эвенков и русских.
Превосходство белых партизан не позволило небольшому отряду моряков с «Красного вымпела» полностью ликвидировать Тунгусскую республику. Корабль находился в бухте Аяна до начала ледостава, а потом вернулся во Владивосток.
Летом 1925 года в сопровождении «Красного вымпела» в Аян пришел транспорт «Олег» с отрядом красноармейцев на борту. Высадка десанта в порту произошла ночью. Одновременно отряд моряков во главе с комиссаром «Красного вымпела» обогнул на шлюпках входной мыс бухты и высадился на берег, отрезав повстанцам пути отступления.
Наступать красноармейцы начали на рассвете. Застигнутые врасплох белые стали отходить, но их встретил пулеметным огнем отряд моряков. Завязалась рукопашная схватка. Вскоре на помощь морякам подоспели красноармейцы. Бойцов Григорьева окружили и взяли в плен.
Так были окончательно ликвидированы остатки белогвардейских отрядов на берегу Охотского моря, и Гражданская война на Дальнем Востоке завершилась.
Печальный финал
Военный суд во Владивостоке приговорил Пепеляева и его бойцов к разным срокам лишения свободы. Первоначально генерала собирались расстрелять, но с подачи Калинина, в ту пору посетившего Дальний Восток, помиловали. Пепеляев получил 10 лет тюрьмы, но провел там все 13. В 1936-м он освободился, но ненадолго: уже через полтора года его вновь арестовали и почти сразу расстреляли. К слову, еще в 1928 году Степан Вострецов, уже будучи командиром 27-й Омской стрелковой дивизии, предложил освободить своего бывшего врага и назначить его военспецом в Красную армию…
Впрочем, судьба противников белого генерала тоже не была радостной. Красный герой Иван Строд был арестован и расстрелян даже раньше Пепеляева, в 1937-м. Прославленный комбриг Вострецов ушел еще раньше: в 1929 году он участвовал в конфликте на КВЖД, а в 1932-м покончил жизнь самоубийством.
Досье «В»
Анатолий Пепеляев (1891–1938) – русский военачальник. Боевой опыт получил в Первую мировую, которую встретил в должности начальника разведки полка. Дерзкие операции в прифронтовой полосе и в тылу немецких войск принесли ему известность на фронте: «Анна» за храбрость, почетное оружие, офицерский «Георгий», «Владимир» с мечами. Войну закончил подполковником. Во время Гражданской вступил в армию Колчака, который присвоил 27-летнему офицеру звание генерала. В 1920 году из-за конфликта с атаманом Семеновым Пепеляев с женой и детьми уехал в Китай.
Иван Строд. Настоящее имя – Янис Стродс (он был сыном латыша и полячки). В Первую мировую геройски сражался в звании прапорщика: был награжден аж четырьмя Георгиевскими крестами. В Гражданскую войну начинал как анархист, позже примкнул к большевикам.
Степан Вострецов – сын уральского крестьянина. С первых дней Гражданской войны был в рядах Красной армии, прошел путь от рядового бойца до командира бригады. Войска под его командованием освобождали Златоуст, Челябинск, Омск, Спасск. Боевые заслуги Вострецова отмечены тремя орденами Красного Знамени.
Летом 1919 г. после захлебнувшегося наступления к Волге последовали реорганизации колчаковских вооруженных сил и попытка усилить боевой потенциал добровольческой компонентой. В числе новаций, которыми белое командование стремилось укрепить фронт, было и войсковое партизанство как адекватный ситуации Гражданской войны ресурс.
Самоназвание "партизан" широко бытовало и на красной, и на белой стороне, бралось на вооружение повстанцами. В нем преобладало не узковоенное значение, а изначальный французский смысл. Партизан как приверженец - сознательный боец, доброволец 1 .
А.П. Перхуров, начальник 13-й Казанской дивизии, в середине июля 1919 г. стал начальником партизанских отрядов 3-й армии белых. Его дивизия в это время была отведена в район Челябинска в армейский резерв на отдых и пополнение. О новоиспеченных партизанах он задним числом высказывался не без недоумения: "Фактически же пришлось действовать на фронте с одним только отрядом в составе около 400 шашек. Другие же отряды, носившие почему-то название партизанских, обслуживали линии полевой почты или же были в зачаточном состоянии". В конце сентября в отряде остались сотня и эскадрон. Последовал приказ отходить из района Кустаная в Омск, для развертывания 2 .
Командуя дивизией, Перхуров применял партизанские набеги силами конного дивизиона своей дивизии и как будто удачно. Казанский конный дивизион с добавлением дивизиона казаков-оренбуржцев стал основой его партизанского отряда 3 . В ходе Челябинской операции, 26-27 июля, Перхуров предпринял не особенно результативный партизанский рейд с отрядом из 2-й Оренбургской казачьей бригады, 9го Симбирского полка и отряда мобилизованных казаков. Уничтожив роту красного 230го полка, отряд отправился в тыл на формирование, а сам генерал попросился в отставку 4 .
При Уфимской группе войск работал Челябинский партизанский отряд полковника Н.Г. Сорочинского 5 - начальника контрразведки Челябинска до сдачи города красным. Очевидно, подчиненные Сорочинского по прежней службе и составили отряд, участвовавший в боях за город 6 . Под Ишимом конный дивизион Сорочинского, уже под командой другого офицера, действовал крайне неудачно 7 . Создать эффективную партизанскую часть явно не получилось.
 В преддверии последнего большого наступления белых на степном фланге 3-й армии господствовали партизанские наименования. Сформированный 13 августа сводный казачий отряд из оренбургских частей 20го августа стал Партизанской группой генерала Л.Н. Доможирова. Группа, не имея артиллерии, доблестно сражалась, сдерживая наступление красной пехоты 8 . Южнее располагалась Степная армейская группа, основу которой составили части анненковцев, сведенные в Партизанскую дивизию генерала З.Ф. Церетели - регулярное соединение. Наконец, еще южнее, в районе Кустаная, действовали партизанские отряды Перхурова (пять сотен и эскадронов, 550 сабель) и генерала Н.П. Карнаухова (оренбургский казачий дивизион и чины учреждений Кустаная с беженским обозом) 9 .
В преддверии последнего большого наступления белых на степном фланге 3-й армии господствовали партизанские наименования. Сформированный 13 августа сводный казачий отряд из оренбургских частей 20го августа стал Партизанской группой генерала Л.Н. Доможирова. Группа, не имея артиллерии, доблестно сражалась, сдерживая наступление красной пехоты 8 . Южнее располагалась Степная армейская группа, основу которой составили части анненковцев, сведенные в Партизанскую дивизию генерала З.Ф. Церетели - регулярное соединение. Наконец, еще южнее, в районе Кустаная, действовали партизанские отряды Перхурова (пять сотен и эскадронов, 550 сабель) и генерала Н.П. Карнаухова (оренбургский казачий дивизион и чины учреждений Кустаная с беженским обозом) 9 .
Летом 1919 г. родился план глубокого конного рейда в тыл красных с перспективой масштабных партизанских действий. По одной версии, план принадлежал самому генералу В.О. Каппелю, был доведен до сведения Ставки, но не был принят. По другой - идея была подана командиром Волжского конно-егерского дивизиона Б.К. Фортунатовым и его офицерами и горячо поддержана командиром корпуса. В первом варианте речь шла о глубоком рейде в тыл красных с целью диверсионными действиями оттянуть с фронта большие силы неприятеля. Во втором же - об уходе на Волгу с целью открыть новый противобольшевистский фронт. Еще одна идея - создание мощного конного соединения, способного нанести сокрушающий удар с прорывом красного фронта. Когда эта идея стала воплощаться в виде Войскового Сибирского корпуса, кандидатура В.О. Каппеля, кадрового кавалериста, на пост командира корпуса рассматривалась наряду с П.П. Ивановым-Риновым. Лишь болезнь Каппеля сняла этот вопрос.
В общих чертах известна эпопея яркого партизана и нетипичного эсера - каппелевца Б.К. Фортунатова 10 . В 1918 г., будучи членом Военного штаба Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, он сражался в строю. Военная стезя увлекла Фортунатова. Его Волжский конно-егерский дивизион входил в Волжскую кавалерийскую бригаду генерала К.П. Нечаева и представлял собой сплоченную боевую часть. Летом в дивизионе стали открыто говорить о реакционном и антинародном курсе правительства адмирала А.В. Колчака. В результате в начале августа дивизион Фортунатова самовольно ушел из корпуса, к нему присоединились отдельные чины других частей. Ядро дивизиона было из Самарской губернии, и речь шла о продолжении борьбы в родных краях. В терпящей поражение Оренбургской армии часть Фортунатова выглядела островком дисциплины и порядка. Перхуров возглавил партизанский отряд, так как разошелся с командованием корпуса и еще раньше разделял идею Фортунатова пробиться на Волгу. 18 августа отряды соединились и около трех недель двигались вместе. Так люди, способные стать войсковыми партизанами, попали в бунтовщики, на "партизанское положение", а не на роль партизан.
 Генерал Карнаухов пытался арестовать партизан за нежелание отступать на восток. Командир IV Оренбургского армейского корпуса генерал А.С. Бакич не желал пропускать их через свои порядки, подозревая, что отряды идут сдаваться красным. Волжские партизаны как будто имели намерение захватить с собой старых добровольцев из состава корпуса Бакича, на что те живо откликнулись 11 . Тем не менее в итоге Перхуров решил, согласно приказу, двигаться на восток с армией.
Генерал Карнаухов пытался арестовать партизан за нежелание отступать на восток. Командир IV Оренбургского армейского корпуса генерал А.С. Бакич не желал пропускать их через свои порядки, подозревая, что отряды идут сдаваться красным. Волжские партизаны как будто имели намерение захватить с собой старых добровольцев из состава корпуса Бакича, на что те живо откликнулись 11 . Тем не менее в итоге Перхуров решил, согласно приказу, двигаться на восток с армией.
Дивизион Фортунатова стал 1-м Волжским партизанским отрядом. Считается, что Каппель с заведомым опозданием подписал приказ о задержании дезертиров, фактически предоставив им возможность уйти. 30 сентября последовала амнистия при условии возвращения 12 . С отрядом сделали несколько переходов два отбившихся воткинских эскадрона, но, поняв безнадежность затеи, вернулись на восток и присоединились к Ижевскому конному полку.
Уже в Сибири, при отходе по проселку, с генералом А.П. Перхуровым повстречался Конно-Егерский дивизион М.М. Манжетного. Около полутора недель они двигались на восток вместе. Дивизион Перхурова представлял собой не более чем "намек на эскадрон", а сам генерал рассказывал, как "поднял в 1918 г. восстание в Ярославле и думает теперь снова вернуться назад. Очень уговаривал и меня присоединиться, доказывая, что с таким отрядом, как у нас, можно отлично партизанить. Я же доказывал несостоятельность этой идеи", - вспоминал Манжетный. По его рассказу, генерал двигался на восток скрепя сердце. "Мысли вернуться назад он не оставил и однажды заявил мне, что делает дневку, если я хочу двигаться дальше - он ничего против иметь не будет". Части пошли раздельно 13 .
Партизаны были, в более ранний период, и в Сибирской армии. По приказам I Сибирскому корпусу известны партизанские отряды при его частях 14 . 23 января 1919 г. в приказе корпусу N25 отмечалось: "Приказываю всем бывшим солдатам срока службы 1908 и 1909 годов явиться в свои волостные и уездные правления к 30 января 1919 года. Из явившихся солдат приказываю сформировать партизанские отряды при полках 1го Средне-Сибирского корпуса. Призыв - временный на 8 месяцев. По формировании новых отрядов, отряды эти приказываю распустить и отправить партизан по домам. Каждый партизан должен явиться в полной одежде для зимней войны... Снаряжение и вооружении получить в полку. С момента прибытия в полк, партизан считается на военной службе, как солдат, и получает все положенное довольствие (кроме вещевого) по своему званию... Временный призыв бывших солдат приказываю произвести: от левого берега Камы в Соликамском уезде, Пермском и Кунгурском уездах и от правого берега реки Камы в Чердынском, Соликамском и Оханском уездах начальнику Пермской местной бригады. Губернскому комиссару, Городским и Земским самоуправлениям оказывать полное содействие и помощь военным властям" 15 . Речь шла о тех местностях, где в 1918 г., еще до прихода белых, получило развитие партизанско-повстанческое движение.
Генерал А.Н. Пепеляев также создавал партизанские отряды из опытных солдат благоприятно настроенных местностей. Вполне разумное и продуктивное решение. Известны 1-й Пермский и Красносельский отряды при 6-м Мариинском полку, поручика Харитонова - при 3-м Барнаульском полку, отряды на северном фланге корпуса, в составе Северного отряда полковника А.В. Бордзиловского. Надо полагать, были и другие. В полках они значились как четвертые батальоны, активно воевали, причем известны награждения их чинов Георгиевскими крестами 16 .
Вернемся к партизанам 3-й армии. Отряд Перхурова кончил сдачей на Лене в марте 1920 г. 17 , отряд Фортунатова после головокружительного похода успел поучаствовать лишь в гибельном отходе уральских казаков, ни о каком фронте на Волге речи уже не было.
В двери стучались решения в духе войскового партизанства и кавалерийского рейдерства. Необходимо было переломить ситуацию после череды военных неудач в условиях опасности разрыва фронта. Одновременно в партизанах видели надежные мобильные части, адаптированные к условиям Гражданской войны. При этом немедленно открылась еще одна ипостась партизанской деятельности: партизан как сознательный боец, не связанный субординацией и готовый принимать самостоятельные решения.
В реальности партизанские по наименованию части в режиме войскового партизанства не действовали, являясь либо строевыми частями, либо случайными сборными отрядами. Организовать по-настоящему партизанские действия в условиях благоприятного ландшафта белое командование не смогло. В то же время "партизанские" замыслы авантюрного склада волновали, очевидно, многих офицеров. Интересно, что кадровые офицеры все же удержались от соблазнов и остались в рамках субординации и дисциплины, что видно на примерах генералов В.О. Каппеля и А.П. Перхурова. Офицерская же молодежь чувствовала себя вольнее. Личный состав из добровольцев был очень чувствителен к идее борьбы в родных местах. Однако эпопея Б.К. Фортунатова продемонстрировала, что хороший кадр и яркий командир лишь ослабили фронт, не принеся тысячекилометровыми блужданиями никаких выгод белым.
В Гражданской войне войсковая партизанская борьба неизбежно должна была сопрягаться с политико-идеологическим воздействием на население и противника, организацией повстанческого движения во вражеском тылу. Учитывая опыт Сибирской армии весны-лета 1919 г., можно предполагать, что генерал А.Н. Пепеляев (в годы Первой мировой руководил полковой командой конных разведчиков, сводным отрядом из казаков и конных команд 11-й Сибирской стрелковой дивизии) мог стать организатором войскового партизанства в интересах фронта. Это избавило бы его от гротескной роли "демократа", создало бы поле деятельности для молодых офицеров из его окружения, склонных к политике, а фронт имел бы шанс избежать катастрофических ударов в спину.
1 Кручинин А.С. "Донские партизаны" 1917-1919 гг.: к вопросу о терминологии и сущности явления // Доклады академии военных наук. Военная история. 2009. N3(38). Партизанская и повстанческая борьба: опыт и уроки ХХ столетия. Саратов, 2009. С. 75-84; Посадский А.В. Партизанско-повстанческая борьба - российский опыт в ХХ веке // Там же. С. 8-9.
2 Перхуров А.П. Исповедь приговоренного. Рыбинск, 1990. С. 34-35. Согласно белым источникам, "особый летучий партизанский" отряд Перхурова состоял из 4 сотен и нескольких дружин и был сформирован для рейдов и диверсий (Волков Е.В. Под знаменем белого адмирала. Офицерский корпус вооруженных формирований А.В. Колчака в период Гражданской войны. Иркутск, 2005. С. 134).
3 Дивизион состоял под командованием некоего "атамана Свечникова" и представлял собой "авторскую" боевую часть из земляков, как можно полагать.
4 Санчук П. Челябинская операция летом 1919 г. // Война и революция. 1930. N 11. С. 79-80.
5 Волков Е.В. Указ. соч. С. 134.
6 http://east-front.narod.ru/memo/belyushin.htm.
7 Егоров А.А. Неудачная переправа. Эпизод из Гражданской войны в Сибири // Луч Азии. 1940. N 67/3.
8 М.Н. Тухачевской пишет, что в сентябрьских боях 1919 г. противник "искусным маневром партизанской группы ген. Доможирова постоянно обходил в дальнейших боях район нашей ударной группы, нанося ей тяжелые поражения". Тухачевский М.Н. Курган - Омск // Тухачевский М.Н. Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. С. 264, 262, 265.
9 Винокуров О. 1919 год на Горькой линии. Электронная рукопись. С. 54. Карнаухов в июле-августе 1919 г. командовал отрядом в Партизанской группе генерала Доможирова, был начальником гарнизона Кустаная. Этот офицер - из первых оренбургских партизанских командиров 1918 г.
10 Леонтьев Я. Фартовый корнет Фортунатов // Родина. 2006. N 7; Балмасов С.С. Судьба Отдельного Волжского конно-егерского дивизиона Фортунатова // Каппель и Каппелевцы. М., 2003. С.505-528.
11 Ганин А.В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004. С. 91.
12 Там же. С. 93.
13 Воспоминания полковника М.М. Манжетного. Неопубликованная рукопись.
14 При этом по приходе частей корпуса местные партизанские отряды распускались, призывные возрасты подлежали зачислению в ряды корпуса.
15 Пермский государственный архив новейшей истории. Ф. 90. Оп. 4. Д. 895. Л. 135.
16 1-й Пермский отряд в конце апреля был снят с фронта, использовался в карательных операциях. Значительная часть чинов была демобилизована или самораспустилась при отступлении или даже ранее, с началом полевых работ. Автор выражает признательность М.Г. Ситникову (Пермь) за предоставленные материалы.
17 Листвин Г. Хроника Сибирского Ледяного похода белых армий адмирала Колчака в Красноярском и Канском уездах Енисейской губернии. Очерк (http://www.promegalit.ru/publics.php?id=1155).
18 На красной стороне многочисленные крестьянские партизанские отряды были организованы в регулярное соединение - Степную бригаду.
"ГИБЕЛЬ ЧЕРНЕЦОВА (ПАМЯТИ БЕЛЫХ ПАРТИЗАН)" (Воспоминания чернецовского партизана Н. Н. Туроверова) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Только около четырёх часов отряд вышел к господствующему холму, верстах в трёх северо-восточнее Глубокой. Чернецов поднялся на холм; автомобиль должен был продвинуться вперед на ж. д. путь, где юнкера-сапёры, испортив его, тем бы лишили эшелоны противника возможности отхода на север, к станции Тарасов-ка; но, едва двигавшаяся до этого, наша машина окончательно отказалась служить. Сгрузив с неё свой пулемёт, я присоединился к отряду. Наша пушка становилась на позицию; Чернецов на скорую руку обучал 25-30 новичков-партизан обращению с винтовкой. В начинающихся сизых сумерках бы-ли видны прямо перед нами ветряные мельницы, дома и сады Глубокой, и за ними дымы паровозов на станции. Правее, внизу, темнела насыпь ж. д. пути на Тарасовку. Была тишина, какая бывает только в зимние сумерки. Наступали ли наши партизаны в 12 часов дня от Каменской на Глубокую, как было условлено, или, заняв исходное положение, ожидали нашей запоздавшей атаки? Никто этого не знал. Чернецов приказал выдать продрогшим партизанам по полбутылки водки на четверых, и они, рассыпав цепь, скорым шагом начали спускаться к ветрякам. Ло-мовые извозчики были отпущены и, нахлёстывая кнутами своих лошадей, помчались назад, в Каменскую. Пушка была установлена, полк. Миончинский скомандо-вал - огонь! Но не успела наша первая граната разорваться в синих глубокинских вишняках, как оттуда мелькнуло четыре коротких вспышки, и над нашим ору-дием низко разорвались шрапнели. Два юнкера-артиллериста упали. Батарея противника (это была 6-ая Дон-ская гвардейская), хотя и без офицеров, стреляла бегло и удачно. На такого противника мы не рассчитывали. Я подошёл к Чернецову и доложил относительно брошенного автомобиля, но едва кончил, как меня ударило точно обухом по голове. Я присел. По щеке и по затылку потекла кровь - папаха меня спасла: шрапнель вскользь сорвала только кожу на голове. Чернецов наклонился надо мной: «Вы ранены?» спросил он, «... надеюсь, легко. Перевяжитесь и пытайтесь пешком пройти к полотну и испортить путь. Что делать! Каша здесь заваривается круче, чем думал...» У меня в глазах шли красные круги, но, замотав бинтом голову, я, с ломом в руке, в сопровождении двух сапёрных юнкеров, начал спускаться вправо к полотну. Уже сзади был слышен нам голос Миончинского: «Наше орудие стрелять не может - испорчен ударник...» - и в ответ - крепкое слово Чернецова. Влево же, в стороне Глубокой, разгоралась пулемётная и ружейная стрельба, горели огни на станции и всё так же полыхали вспышки орудийных выстрелов - 6-ая батарея била теперь по нашей цепи. Мы подошли к насыпи. На полотне никого не было. Но только мы успели отвинтить одну гайку на стыке рельс, как со стороны Глубокой увидели идущий на нас эшелон. Бросив на рельсы две-три лежавшие вблизи шпалы, мы залегли в пахоту саженях в 50 от пути. Эшелон, наткнувшись на шпалы, остановился; из вагонов раздалась ругань и беспорядочная стрельба в на-шу сторону. Становилось совсем темно. Освободив путь, эшелон продвинулся с полверсты и снова остановился. По шуму и крикам, доносившимся оттуда, было ясно, что красногвардейцы выгружаются из вагонов и рассыпают цепь, чтобы ударить нам в тыл. Мы поспешили назад к бугру, дабы сообщить Чернецову о новом движении противника, но, немного пройдя, наткнулись на цепь красногвардейцев, идущих со стороны Глубокой, лицом к только что выгрузившимся из эшелона. Понять что-либо было трудно. Нас в темноте приняли за своих, мы не разуверяли и спешили только выкарабкаться из этого сужающегося коридора идущих навстречу друг другу цепей. Партизаны, как всегда, шли в рост, дошли до штыкового удара, ворвались на станцию, но их оказалось мало - с юга, со стороны Каменской, никто их не под-держал, атака захлестнулась; все три пулемёта заклинились, наступила реакция - партизаны стали вчерашними детьми. Часть их, во главе с Романом Лазаревым, который руководил атакой, с разгона пробилась через Глубокую в сторону Каменской; остальные по-одиночке возвращались теперь к исходному пункту - нашему бугру. Учесть наши потери было трудно: налицо, вместо полутора сотен штыков, едва 60 голодных, холодных и усталых партизан при трёх недействующих пулемётах и испорченной пушке. Запас патронов был мал, хлеба и консервов почти не было - всё было рассчитано на за-нятие Глубокой, о вторичной атаке которой нечего было и думать. Ночь была холодная, подул северо-восточный ветер. Партизаны дрожали, прижавшись друг к другу на ледяном бугре. В десятом часу Чернецов приказал подниматься - не замерзать же нам здесь! Он повёл нас прямо на Глубокую, т. е. к противнику. Он был уверен в небрежном охранении противника и не ошибся: красногвардейцы сбились все на станции, а мы расположились на ночь в крайнем доме посёлка -враги ночевали в двухстах саженях один от другого. В трёх комнатах, разделив последние десять банок консервов, на полу, под столами и скамейками лежали спящие партизаны; юнкера-артиллеристы возились с замком от орудия. У единственной кровати врач и сестры милосердия перевязывали легко раненых - тяже-ло раненые не вернулись назад, остались на поле брани. У меня болела голова, встать я не мог. Чернецов всё время обходил часовых на дворе, бодрил людей: он всё надеялся, что со стороны Каменской наши еще пойдут в наступление. Заря была холодная, ясная, ветреная. Мы двинулись по шляху на Каменскую. Вправо, внизу, лежала Глубокая. Над станцией розово всходили дымы паровозов. Мой кольт ехал с другими пулемётами на подводе, а я с двумя юнкерами и доктором верхами шли в полу-версте, впереди отряда, как авангард. О каком-либо преследовании нас, тем более о встрече с противником в степи, никто не думал: в то время противник был прикован к рельсам. Впереди лежал чёрный обледенелый шлях на Каменскую. Степь была почти без снега - вчерашний туман съел его - с белесым тонким льдом на лужах. Шли медленно. Впереди верхами - Чернецов и Миончинский, за ними орудие, конные юнкера, пулемёты на подводе, двуколки с сестрами и не могшими идти ранеными и сзади, по три, партизаны. Около 12 часов уже прошли половину дороги; пе-ред нами лежал пологий подъём, за ним должен быть хутор Гусев. Неожиданно справа, из-за трёх курганов, хлопнуло два выстрела, над нашими головами пролетели пули. Я со своими спутниками поскакали на выстрелы, стараясь обогнуть по-глубже, с тыла, курганы. За ними мы увидели двух спешенных людей, спешащих сесть на коней. Нагнали их, близко, стреляя из револьверов - один свалился с коня, другой ушёл. Убитый оказался казаком: шаровары с лампасами, на погонах шинели цифра 44, большой рыжий чуб из-под окровавленной папахи. Один из юнкеров поскакал к Чернецову с донесе-нием. Мы же двинулись вперед, но едва поднялись на перевал, как остановились, поражённые. На противоположном скате низины, верстах в двух, перерезав нашу дорогу, лицом к нам стояла тёмная масса конницы. Тонкая цепь конных дозоров была раскинута полукругом, охватывая нас. Я тронул коня, спустился в низину и, поднимаясь к неизвестной коннице, стал махать белым носовым платком. Я уже хорошо видел, что это казаки. Но по мне начали стрелять, сначала из винтовок, потом из пулемёта, и несколько конных поскакало, стараясь отрезать меня от нашего отряда. Я повернул коня. В это время со стороны казаков раздалось четыре орудийных выстрела и гранаты взры-ли мёрзлую землю на том месте, где я оставил Чернецова и где теперь уже стояла наша, исправленная за ночь, пушка, и партизаны рассыпали цепь. Влево и впереди виднелся хутор Гусев, нас отделял от него мало лесный круто склонный буерак. Начался бой. Наша пушка едва успела раз выстрелить, как была подбита: в двуколку угодило сразу две гранаты, и я видел, как в дыму разрыва мелькнули юбки сестер. Батарея (это была опять 6-ая Донская гвардейская) била прямой наводкой, не жалея снарядов, и через десять минут трудно было разобрать нашу жалкую цепь в чёрном дыму разрывов. Казаки не стреляли, а расстреливали нас, как мишени на учебной стрельбе. Подо мной убило лошадь, сильно контузив мне правую ногу, но мне посчастливилось вскочить на другую, из-под только что убитого юнкера. Казаки густой лавой - их было около 500 шашек - сначала рысью, потом намётом пошли на нас в атаку. Они были очевидно уверены, что с нами уже всё кончено; но когда с двухсот шагов их встретили залпы партизан под звенящую команду Чернецова, они так же быстро поскакали назад и, пропустив вперед свои четыре пулемёта на двуколках, начали нас выбивать. Наша цепь ринулась в буерак во главе с Чернецовым, который слез с коня. Партизаны падали в убойном огне пулемётов и орудий. Я погнал коня, стараясь проскочить в хутор ранее, чем поскакавший мне наперерез разъездь казаков. За мной скакал, пригнувшись к луке, враг. Гусев был от нас верстах в двух, казаки скакали вправо, крича и стреляя на ходу, Было ясно: перехватить они нас не успеют. Наши лошади были в мыле, но шли крепким и широким махом. Мы влетели в хутор. На его околице стояла толпа. Но едва мы подъехали к ней, сдерживая тяжело дышавших лошадей, как толпа ринулась к нам, окружила нас, схватив под уздцы наших коней. «Бей их! Валяй наземь!» - раздались крики, и десять рук вцепились в меня. Какой-то бурдастый старик с длинным железным прутом кричал: «Стой, братцы, я его сейчас!» Он размахнулся и ударил меня по голове, сбив папаху. Доктора уже стянули с лошади и, раскачивая за руки и ноги, били о землю. Мне засунули между ногой и седлом палку, старик вновь ударил меня прутом по голове и я упал, спрятав голову в согнутую руку. Меня били палками, плетьми, а у кого были пустые руки били ногами. В голове мелькнула виденная в детстве сцена самосуда над конокрадом-цыганом, и остро хотелось одного: скорей бы потерять сознание, скорей бы конец! В это время раздались крики: «Стой! Не моги добивать! Давай их сюда! Надо Голубову представить, по-том порешим с ними!» - Это кричали прискакавшие казаки - те, которые гнались за нами. Неохотно толпа, уже пьяная кровью, отхлынула от нас. Доктор едва мог стоять, у меня шла кровь из ушей, носа, рта. Погоня была из девяти казаков. Передний крупный, чубатый и рябой, переводя дух после скачки, приказал нам сесть на наших лошадей и, размахнувшись нагайкой, ударил через голову ближнего к нему доктора.
Несчастный доктор, собрав последние силы, под градом новых ударов, взвалился на седло. Конные казаки окружили нас и под улюлюканье толпы мы, едва держась в седле, двинулись обратной дорогой к буераку, где еще были слышны пулемёты. Рядом со мной ехал рябой казак, ударивший нагайкой доктора. Как и остальные, он непрестанно ругался и грозил нам обнажённой шашкой. Мы с доктором слезли с лошадей и стали раздевать-ся; на мои шаровары и сапоги тотчас же нашлись охотники, ватное же пальто доктора отбросили в сторону. Нас поставили к глинистому обрыву и стали наводить пулемёт. В этот момент из-за поворота буерака пока-залась грузная, в защитном полушубке и заячьем капелюхе, конная фигура Голубова - всё было кончено, остатки нашего отряда сдались... «Кто приказал? Что вы делаете?» - крикнул Голубов казакам, увидев нас. «Присоединить их к остальным пленникам!» Наш конец был вновь отсрочен. Рядом с Голубовым ехал на кляче, отставив раненую в ступню ногу Чернецов. Рана была перевязана нижней рубашкой, снятой с убитого партизана. За ними толпой, таща.волоком свои испорченные пулемёты, шли человек тридцать партизан - всё, что осталось от отряда. Партизаны были окровавлены от побоев, шли они в исподниках, в однихьносках и босиком. Мы с док-тором присоединились к ним. Трудно выяснить - что руководило войсковым старшиной Голубовым в его странной и тёмной роли в те дни на Дону. Студент Томского университета, не скрывавший своего реакционного мракобесия, Голубов во время Великой войны проявил чудеса храбрости и весной 1917 года, в мятежном Царицыне, он серьёзно считал себя первым кандидатом на пост Донского Атамана. Попав позже в Новочеркасск, как пленник Атамана Каледина, Голубов поклялся ему в верности и был освобождён. Теперь он ехал, как победитель, рядом с Чернецовым. Его мясистое лицо с белесыми бровями дышало торжеством. Нас гнали в Глубокую. За нами без строя шла революционная казачья сила: части 27-го и 44-го полков с 6-ой Донской гвардейской батареей. Но Голубову, видимо, хотелось, чтобы Чернецов и мы видели не разнузданность, а строевые части. Он обернулся на-зад и зычно крикнул: «Командиры полков - ко мне!» Два урядника, нахлестнув лошадей, а по дороге и партизан, вылетели вперед. Голубов им строго приказал: «Идти в колонне по шести. Людям не сметь покидать строя. Командирам сотен идти на своих местах!» Нас гнали. Если кто из раненых и избитых партизан отставал хотя на шаг, его били, подгоняя прикладами и плетьми. Мы знали, что нас гонят на Глубокую для передачи красногвардейцам. Знали - что нас ожидает. Некоторые партизаны, из самых юных, не выдержав, падали на землю и истерически кричали, прося казаков убить их сейчас. Их поднимали ударами и снова гнали, и снова били. Это была страшная, окровавленная, с обезумевшими глазами, толпа детей в подштанниках, идущих босиком по январьской степи... В это время со стороны эшелона, верхом на велико-лепном рыжем жеребце, в чёрной кожаной куртке, с биноклем на груди - плечистый, мордастый - подъ-ехал к нам сам Подтёлков, глава революционного казачьего комитета. Наши продолжали наступать. Голубов, оставив человек тридцать конвоя, передал нас Подтёлкову, а сам, со всеми своими казаками и батареей, повернул в сторону ведущегося наступления. Подтёлков выхватил шашку и, вертя ею над головой Чернецова, крикнул: «Всех вас посеку на капусту, еже-ли твои щенки не остановят наступления!» Прекратившие избиение (видимо, уже приелось) казаки начали вновь нас бить. Мне прикладом выбили зуб. Эшелон медленно, параллельно нам, отходил к недалёкой уже Глубокой, стреляя из своей пушки. Мы подошли к речке Глубочке ее берега были круты и по-крыты гололедицей. Конвой с Подтёлковым поехал через мост; нас же погнали в брод. Лёд на речке был то-нок и проломился под нами. По пояс в воде мы перешли Глубочку, но никак не могли вскарабкаться на её крутой обледенелый берег. Конвой начал по нас стрелять. Трех убил, остальные кое-как, срывая ногти, вылезли на кручу. Только Подтёлков собрался назначить проводника, как со стороны Глубокой навстречу нам показались три всадника. Это были, конечно, казаки Голубова. Никто из нас, я уверен, не обратил на них внимания. В этот момент Чернецов, не дожидаясь ответа каза-ков, молниеносно ударил наотмашь, кулаком в лицо Подтёлкова и крикнул: «Ура! Это наши!». Окровавленные партизаны, до этого времени едва передвигавшие ноги, подхватили этот крик с силой и верой, которая может быть только у обречённых смертников, вдруг почуявших свободу. Трудно дать этому моменту верное описание!... Я видел, как широко раскинув руки, свалился с седла Подтёлков, как ринулся вскачь от нас во все стороны конвой, как какой-то партизан, стянув за ногу казака, вскочил на его лошадь и поскакал с криком: «Ура! Генерал Чернецов!» Сам же Чернецов, повернув круто назад, погнал свою клячу намётом. Партизаны разбегались во все стороны. Я бежал к полотну железной дороги, не чувствуя ни боли в ранах, ни усталости. Меня переполняла дикая радость, сознание, что я живу, что я свободен... По ту сторону полотна, над мягким контуром холмов, тянувшихся до самой Каменской, едва тлел жёлтый закат. Сумерки густели. Я знал: за полотном, под холмами, идут хутора с густыми вишнёвыми садами, и по этим садам можно скрытно пробраться к Каменской. Только бы перейти за полотно! Вдруг в стоявшем вправо от меня красногвардейском эшелоне вспыхнуло «ура», раздались выстрелы и паровоз рванул эшелон к Глубокой. Это несколько на-ших партизан, решив почему-то, что эшелон - наш, вскочили на его платформу, где стояли пулемёты и, увидев ошибку, бросились с голыми руками на красно-гвардейцев. На следующий день были найдены трупы партизан и красногвардейцев, упавших в борьбе под колёса эшелона. Мы прошли уже место боя, перерезали шлях и шли прямиком по степи на Глубокую, приближаясь к ж. д. полотну. В это время со стороны полотна к Голубову подъехали три казака и что-то ему доложили. Перейдя Глубочку, я пошёл левадами, вишняками и тернами хуторов на Каменскую. От недалёких куреней тянуло кизечным дымом. Иногда лаяли собаки - тог-да я останавливался и ждал, когда они смолкнут. Нервный подъём прошёл, я чувствовал холод; меня знобило и мучительно хотелось спать. Но я знал: если под-дамся и лягу, то больше не встану. И, напрягая последние силы, я шёл с детства знакомой, но теперь так труд-но угадываемой, местностью. Начались галлюцинации: на меня шли цепи, скакала казачья лава, я слышал шум шагов и фырканье лошадей. Останавливался, поднимал руки и сдавался... Противник, как дым, проходил, не задевая меня, а на смену шли новые толпы... Я чувствовал, что близок к помешательству, но продолжал механически шагать: жить, жить во что бы то ни стало! На мосту меня встретила офицерская застава родных атаманцев. Меня спросили о Чернецове. Но что я мог ответить? После я лежал в Областной больнице в Новочеркасске с забинтованной головой. Совершенно неожиданно для меня вошел в палату Атаман Каледин и подошел ко мне. Он был один. Спросил меня, каких я Туроверовых (рыжих или черных). В апреле 1918 года, когда, вернувшись из Степного похода, мы с восставшими Мелеховцами и Раздорцами трижды пытались взять Парамоновские рудники и трижды не могли этого сделать, когда после каждой неудачи бабы ухватами выгоняли казаков из куреней снова на позицию, развозя потом по зеленеющим курганам каймак и галушки родным воителям, которые ле-ниво постреливали в шахтёров и спали под апрельским солнцем, - в дни Страстной недели я узнал о смерти Чернецова. Я ответил. Спросил о драме под Глубокой. Я доложил что знал. Долго молчал Атаман. Поднялся со стула, перекрестил, поцеловал в лоб и очень усталой походкой ушел. Чернецов поскакал не в Каменскую, а в свою родную станицу Калитвенскую, где и заночевал в отчем доме. Кто-то из станичников дал немедленно знать об этом на Глубокую. На рассвете Подтёлков с несколькими казаками схватил в Калитвенской Чернецова и повёз его в Глубокую. По дороге Подтёлков издевался над Чернецовым - Чернецов молчал. Когда же Подтёлков ударил его плетью, Чернецов выхватил из внутреннего кармана своего полушубка маленький браунинг и в упор... щёлкнул в Подтёлкова: в стволе пистолета патрона не было - Чернецов забыл об этом, не подав патрона из обоймы. Подтелков, выхватив шашку, рубанул его по лицу, и через пять минут казаки ехали дальше, оставив в степи изрубленный труп Чернецова. Голубов, будто бы, узнав о гибели Чернецова, набросился с ругательствами на Подтёлкова и даже заплакал... Так рассказывал казак, а я слушал и думал, что самый возвышенный подвиг венчает смерть. Но жизнь казалась прекрасной - мне было восемнадцать лет.
Латинская Америка - континент-революционер. Десятилетиями в некоторых латиноамериканских государствах сражаются революционные партизанские организации, провозглашающие главной своей целью борьбу с американским империализмом, а наиболее радикальные - еще и построение «светлого коммунистического общества». Где-то борьба левых партизан еще в ХХ веке завершилась успехом (Куба, Никарагуа), где-то левые пришли к власти без победы в партизанской войне (Венесуэла, Боливия), но в ряде стран Латинской Америки до сих пор звучат выстрелы и целые массивы горных и лесных территорий не контролируются центральным правительством. К таким государствам относится и Перу.
Перу - третья по площади занимаемой территории страна Южной Америки. Именно здесь зародилась и развивалась легендарная империя инков, пока ее не колонизировали испанские конкистадоры Франсиско Писарро. В 1544 г. было учреждено испанское вице-королевство Перу, но несмотря на это, вплоть до конца XVIII века здесь вспыхивали массовые восстания индейского населения, во главе которых стояли отпрыски древней инкской династии. Когда по всей Латинской Америке шли войны за независимость, Перу длительное время сохраняло лояльность испанской короне. Несмотря на то, что 28 июля 1821 г. вторгшийся из Чили генерал Сан-Мартин провозгласил независимость Перу, испанцам удалось вернуть власть над колонией уже в 1823 г. и продержаться до прибытия в 1824 г. войск генерала Сукре - соратника знаменитого Симона Боливара. Именно Боливара с полным правом можно считать отцом независимой перуанской государственности. Перу второй половины XIX - ХХ вв. - это история типичной латиноамериканской страны со всеми сопутствующими «прелестями» - чередой военных переворотов, колоссальной социальной поляризацией населения, полной подконтрольностью страны американскому и английскому капиталу, репрессиями против представителей левых и национально-освободительных движений.
Мариатеги - провозвестник «Сияющего пути»
Социально-экономические проблемы страны, бедственное положение большей части населения и существующее разделение на «белую» элиту, метисов и индейское крестьянство, составляющее большинство населения, способствовали росту социальных протестов в стране. Чаще всего выступления индейского крестьянства носили спонтанный и неорганизованный характер. Ситуация стала меняться, когда в Перу распространились коммунистические идеи, первоначально воспринятые небольшой частью городской интеллигенции и промышленных рабочих. У истоков Перуанской коммунистической партии, основанной в 1928 году, стоял Хосе Карлос Мариатеги (1894-1930). Выходец из семьи мелкого служащего, оставившего семью, Мариатеги воспитывался матерью. В детстве он получил травму левой ноги, но несмотря на инвалидность, был вынужден с 14 лет начать работать - сначала чернорабочим в типографии, а затем журналистом в ряде перуанских газет. В ранней молодости он стал активным участником перуанского рабочего движения, был выслан из страны и проживал в Италии, где познакомился с идеями марксизма и создал небольшой коммунистический кружок из перуанских эмигрантов. Вернувшись на родину, Мариатеги вскоре сильно заболел, и травмированную в детстве ногу ему пришлось ампутировать. Тем не менее, он продолжил активную работу по созданию в стране коммунистической партии. В 1927 г. Мариатеги был арестован и помещен как инвалид в военный госпиталь, затем находился под домашним арестом. Тем не менее, в 1928 году им и еще несколькими товарищами была создана Перуанская социалистическая партия, в 1930 году переименованная в коммунистическую. В том же 1930 году Хосе Мариатеги скончался, не дожив до тридцати шести лет. Но, несмотря на столь короткую жизнь, его идеи оказали огромное влияние на становление коммунистического движения в Перу, да и в некоторых других странах Латинской Америки. Трактовка Мариатеги марксизма-ленинизма сводилась к тому, что он выступал за необходимость развития революционного движения в Перу и в Латинской Америке в целом с опорой на местные традиции, без слепого копирования российского и европейского опыта. В принципе, идеи Мариатеги и были приняты на вооружение многими латиноамериканскими революционными организациями, которые смогли соединить марксистскую доктрину с левым индейским национализмом и провозгласить опору на крестьянство, которое составляло подавляющее большинство населения практически во всех странах континента.
На протяжении своей истории Перуанская компартия неоднократно переживала запреты со стороны правительства страны, а порой и жестокие репрессии в отношении активистов. Ведь большую часть ХХ века в стране существовали реакционные проамериканские режимы, преследовавшие всех, кто выступал против американского империализма, иностранных компаний и местных латифундистов-олигархов. Тем не менее, был в истории Перу ХХ века и кратковременный период нахождения у власти левых. Причем воплощать революционные идеи в жизнь стали военные - правительство генерала Хуана Веласко Альварадо (1910-1977), находившееся у власти с 1968 по 1975 гг. По глубине и качеству революционных преобразований, проводившихся в Перу в эти годы, режим Альварадо стоит в одном ряду с кубинскими и никарагуанскими революционерами.
Революционная хунта Альварадо
Хуан Веласко Альварадо был выходцем из бедной семьи мелкого чиновника. В семье его отца насчитывалось 11 детей. Естественно, что жила семья в бедности, но, как отмечал затем Альварадо, эта бедность была достойной. В 1929 г. девятнадцатилетний Альварадо поступил на службу рядовым в вооруженные силы. В те годы, да и сейчас, военная служба порой была единственным способом даже не только сделать какую-то карьеру, но и просто получить гарантированную занятость и довольствие.  За проявленные воинские способности рядовой Альварадо был отобран для учебы в военном училище Чоррильос. Кстати, в выпуске училища он также был одним из лучших. В 1944 г. Альварадо окончил уже Высшее военное училище, где с 1946 г. преподавал тактику. В 1952 г. он был начальником военного училища, затем - начальником штаба 4-го Военно-учебного центра Перу. В 1959 г. сорокадевятилетнему Альварадо было присвоено звание бригадного генерала. В 1962-1968 г. он был военным атташе Перу во Франции, а в январе 1968 г. занял пост командующего сухопутными войсками и председателя Объединенного командования вооруженных сил Перу. 3 октября 1968 г. в Перу произошел военный переворот. Подразделения бронетанковой дивизии окружили президентский дворец. Офицеры во главе с полковником Гальего Венеро арестовали действующего президента Белаунде. Власть в стране перешла к военной хунте - Революционному правительству вооруженных сил. Президентом военные выбрали пользующегося большим авторитетом в армии генерала Хуана Веласко Альварадо. Премьер-министром военного правительства стал главный инспектор вооруженных сил Перу генерал Эрнесто Монтанье Санчес (1916-1993).
За проявленные воинские способности рядовой Альварадо был отобран для учебы в военном училище Чоррильос. Кстати, в выпуске училища он также был одним из лучших. В 1944 г. Альварадо окончил уже Высшее военное училище, где с 1946 г. преподавал тактику. В 1952 г. он был начальником военного училища, затем - начальником штаба 4-го Военно-учебного центра Перу. В 1959 г. сорокадевятилетнему Альварадо было присвоено звание бригадного генерала. В 1962-1968 г. он был военным атташе Перу во Франции, а в январе 1968 г. занял пост командующего сухопутными войсками и председателя Объединенного командования вооруженных сил Перу. 3 октября 1968 г. в Перу произошел военный переворот. Подразделения бронетанковой дивизии окружили президентский дворец. Офицеры во главе с полковником Гальего Венеро арестовали действующего президента Белаунде. Власть в стране перешла к военной хунте - Революционному правительству вооруженных сил. Президентом военные выбрали пользующегося большим авторитетом в армии генерала Хуана Веласко Альварадо. Премьер-министром военного правительства стал главный инспектор вооруженных сил Перу генерал Эрнесто Монтанье Санчес (1916-1993).
Военное правительство приступило к серьезнейшим политическим и социально-экономическим преобразованиям. В политическом плане вся власть в стране была передана военным - очевидно, что гражданским политикам революционная хунта не доверяла. Были предприняты меры по улучшению позиций индейцев - коренного населения Перу. Так, язык кечуа, на котором говорит большая часть перуанских индейцев, был принят в качестве второго государственного языка страны (первый - испанский). Было введено бесплатное девятиклассное образование. В декабре 1970 г. Веласко Альварадо подписал указ об амнистии участникам повстанческих и партизанских движений перуанских крестьян, в январе 1971 г. была официально признана Всеобщая конфедерация труда Перу, прекращены преследования коммунистов и закрыты все судебные дела, возбуждавшиеся против активистов коммунистической партии прежде. Во внешней политике Перу взяло курс на сотрудничество с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Были установлены дипломатические отношения с СССР, Чехословакией, Кубой, отсутствовавшие при предыдущих проамериканских правительствах.
Еще более глубокими были преобразования в экономике. Правительство Альварадо провозгласило курс на ликвидацию засилья олигархов, латифундистов в сельском хозяйстве, повышение уровня жизни населения. Началась национализация целого ряда отраслей экономики, в том числе нефтяной, горнорудной, рыболовной промышленности, железных дорог, воздушного транспорта. Под контроль государства также были взяты большинство банковских организаций и средств массовой информации. Причем правые и проамериканские средства массовой информации цензурировались, ряд изданий был закрыт, а их руководство выслано из страны за антинациональную политику. На предприятиях были созданы промышленные общины, в задачи которых входило обеспечение постепенного перехода 50% предприятий в собственность трудовых коллективов. Аналогичные общины были созданы на рыболовецких предприятиях и в горнодобывающей промышленности. В сельском хозяйстве также были произведены колоссальные реформы. Национализировалось 90% сельскохозяйственных земель, которые прежде принадлежали 2% населения, составлявшим класс латифундистов - помещиков. Крестьяне объединялись в кооперативы, создаваемые на месте национализированных латифундий. Подчеркивалось право крестьян на владение землей в составе кооперативов. Одновременно ликвидировалась собственность латифундистов на водные ресурсы, все водные ресурсы страны переходили в собственность перуанского государства.
Естественно, что проводимая правительством Альварадо политика, фактически превращавшая Перу в государство социалистической ориентации, очень беспокоила Соединенные Штаты Америки. США панически боялись роста советского влияния в Латинской Америке и не желали появления еще одного, кроме Кубы, очага социализма в Новом свете. Тем более, американская олигархия не хотела видеть социалистической страной крупное и богатое природными ресурсами Перу. Поэтому американское руководство перешло к своим испытанным методам - подготовке свержения прогрессивного правительства Перу с помощью «народных протестов» (в XXI веке это называется «оранжевая революция» или «майдан»). ЦРУ США сотрудничало с рядом высших офицеров и чиновников Перу, происходивших из слоев олигархии и латифундистов и недовольных социалистическими преобразованиями. 29 августа 1975 г. произошел военный переворот, в результате которого правительство Альварадо было свергнуто. Сам генерал отправился на пенсию и через два года скончался. Франсиско Моралес Бермудес, вставший у руля перуанского государства, свернул прогрессивные преобразования и вернул страну на путь капиталистического развития, то есть - опять под фактическую власть американской и проамериканской олигархии.
Время правления Альварадо способствовало расцвету легально действующих левых и леворадикальных политических организаций. К 1960-м гг. в Перу активно действовала Коммунистическая партия Перу - Красный флаг. Это был радикальный откол от Перуанской коммунистической партии, ориентированный на маоистские идеи. В конце 1960-х гг. маоизм получал все большее распространение среди перуанской студенческой молодежи. Он представлялся доктриной, более приспособленной для крестьянского Перу, нежели советская трактовка марксизма-ленинизма, ориентированная на промышленный пролетариат. Тем более, что в маоизме более четко просматривался антиимпериалистический и антиколониальный пафос, стремление к освобождению народов «третьего мира». Идеи Мао перекликались с концепцией перуанского коммуниста Хосе Карлоса Мариатеги, который, как мы писали выше, рассуждал в своих работах о необходимости уникального латиноамериканского пути развития революции, отличающегося от европейских сценариев.
Начало Сияющего пути. Председатель Гонсало
Университет Хуаманга в Аякучо был открыт после длившегося почти половину столетия перерыва. Здесь царил дух свободомыслия, особенно возросший в годы правления левого режима Веласко Альварадо. Студенты университета интересовались марксизмом, другими современными леворадикальными теориями. Именно в университете Хуаманги и появилась организация, получившая название «Сияющий путь» («Светлый путь»), а точнее - Коммунистическая партия Перу - Сияющий путь, или «Сендеро Луминосо» (Sendero Luminoso). Это название было взято из лозунга основателя перуанской компартии Хосе Карлоса Мариатеги - «Марксизм-ленинизм открывает сияющий путь в революцию». У истоков «Сияющего пути» стоял скромный университетский преподаватель, которому спустя некоторое время было суждено стать бессменным руководителем одной из крупнейших и активнейших в Латинской Америке вооруженных маоистских организаций и навсегда остаться в истории латиноамериканского революционного движения.

Мануэль Рубэн Абимаэль Гусман Рейносо, более известный как «Председатель Гонсало», родился 3 декабря 1934 года в портовом городе Мольендо, что в провинции Ислай. Он был незаконнорожденным сыном богатого предпринимателя и с 13-летнего возраста воспитывался в семье отца (мать умерла, когда мальчику было пять лет). После завершения среднего образования в частной католической школе, Гусман поступил в Национальный университет святого Августина в Арекипе - на факультет общественных наук. В университете Гусман изучал одновременно философию и правоведение, получив степень бакалавра по философии и юриспруденции и защитив две работы - «Кантианская теория пространства» и «Буржуазно-демократическое государство». С юности Гусман интересовался идеями марксизма и постепенно эволюционировал в сторону маоизма. Здесь на него оказали влияние книги Хосе Карлоса Мариатеги и общение с ректором университета Эфреном Мороте Беста. В университете Хуаманга в Аякучо Гусман преподавал философию и вскоре стал лидером студенческой маоистской группы, на основе которой и была создана Коммунистическая партия Перу - Сияющий путь. В 1973-1975 гг. Сияющий путь поставил под контроль студенческие советы в университетах Хуанкайо, Ла Кантута, укрепил позиции в совете Национального университета Сан-Маркос и Национального университета инженеров в Лиме. Однако смещение правительства Альварадо, нанесшее серьезный удар по позициям перуанских левых, способствовало и ослаблению позиций маоистов в перуанских университетах. Поэтому активисты Сияющего пути решили постепенно вывести свою деятельность за пределы университетских аудиторий и перейти к агитации трудящегося населения, в первую очередь - перуанского крестьянства.
По мере «поправения» политического режима Перу и возвращения правительства страны к проамериканской политике росло и недовольство народных масс социально-экономическими условиями жизни в стране. Этим умело воспользовались перуанские маоисты, предпринявшие «хождение в народ». С 17 марта 1980 г. Сияющий путь организовал несколько подпольных собраний в Аякучо, вошедших в историю под названием второго центрального пленарного комитета. На этих собраниях был сформирован революционный директорат как политическое и военное руководство партии, после чего были созданы группы боевиков для заброски в сельскую местность и развертывание «народной войны». Была основана первая военная школа, в которой боевикам Сияющего пути предстояло осваивать азы военной тактики, обращения с , методов партизанской войны. В том же 1980 г. Сияющий путь взял окончательный и бескомпромиссный курс на проведение в Перу коммунистической революции и отказался от участия в выборах. 17 мая 1980 г., в преддверье президентских выборов, боевики Сияющего пути сожгли урны для бюллетеней на избирательном участке в городе Чусчи в Аякучо. Это безобидное на первый взгляд мероприятие стало первой экстремистской акцией сендеро луминосо, слава которых в 1980-е и 1990-е годы гремела на всю Латинскую Америку. Полиции в этот раз удалось быстро арестовать поджигателей урн, а средства массовой информации практически не уделили внимание незначительному инциденту. Однако вслед за поджогом урн начались другие вылазки радикальной маоистской организации.
Герилья в Андах
 В течение 1980-х гг. Сияющий путь превратился в одну из крупнейших партизанских организаций Латинской Америки, поставив под контроль значительные территории, в особенности в Андском районе. Здесь, в Андах, жило малообразованное и угнетаемое индейское крестьянское население. Поскольку центральное правительство практически не занималось решением повседневных проблем индейского населения, а некоторые горные районы фактически не контролировались властью, маоисты Сияющего пути достаточно быстро приобрели авторитет местного населения, выступая в роли его организаторов и заступников. В перуанских деревнях крестьяне формировали народное самоуправление, а маоисты отстаивали их интересы, прибегая к экстремистским методам - убивали фермеров, торговцев, управляющих. К слову, последние были ненавидимы большинством крестьян. Тут следует отметить, что значительную роль в усилении позиций Сияющего пути в перуанских горах сыграла и нерешительная политика руководства Перу. Долгое время руководители перуанских силовых структур недооценивали масштабы угрозы политической стабильности со стороны маоистских партизан, будучи уверены в том, что сендеристов легко подавить с помощью обычных полицейских мер.
В течение 1980-х гг. Сияющий путь превратился в одну из крупнейших партизанских организаций Латинской Америки, поставив под контроль значительные территории, в особенности в Андском районе. Здесь, в Андах, жило малообразованное и угнетаемое индейское крестьянское население. Поскольку центральное правительство практически не занималось решением повседневных проблем индейского населения, а некоторые горные районы фактически не контролировались властью, маоисты Сияющего пути достаточно быстро приобрели авторитет местного населения, выступая в роли его организаторов и заступников. В перуанских деревнях крестьяне формировали народное самоуправление, а маоисты отстаивали их интересы, прибегая к экстремистским методам - убивали фермеров, торговцев, управляющих. К слову, последние были ненавидимы большинством крестьян. Тут следует отметить, что значительную роль в усилении позиций Сияющего пути в перуанских горах сыграла и нерешительная политика руководства Перу. Долгое время руководители перуанских силовых структур недооценивали масштабы угрозы политической стабильности со стороны маоистских партизан, будучи уверены в том, что сендеристов легко подавить с помощью обычных полицейских мер.
Лишь 29 декабря 1981 г. три горных района Анд - Аякучо, Апуримака и Хуанкавелики - были объявлены зоной чрезвычайного положения. Туда были введены полицейские и военные подразделения. Военнослужащие действовали в черных масках и поэтому чувствовали себя безнаказанными. Местное население подвергалось избиениям и пыткам, крестьянские дома грабились солдатами, что в совокупности отнюдь не способствовало росту популярности правительства среди андских индейцев и играло на руку сендеристам. С другой стороны, правительство приступило к испытанной антипартизанской тактике - формированию контрпартизанских отрядов из числа самих крестьян, по каким-либо причинам недовольных деятельностью маоистов, либо согласных выполнять карательные функции за определенное вознаграждение и привилегии. Так появились «рондас». Несмотря на слабую подготовку и плохое вооружение, «рондас» нанесли значительный урон маоистам. В частности, в январе 1983 г. рондас уничтожили 13 боевиков Сияющего пути, в марте 1983 г. убили Олегарио Куритомея - лидера группы Сияющий путь в городе Луканамарки. Олегарио был забит камнями до смерти, заколот, брошен живьем в огонь и только затем застрелен. На зверское убийство одного из своих руководителей Сияющий путь не мог не ответить. Вооруженные отряды Сияющего пути ворвались в города Луканамарка, Атакара, Янаколпа, Ллакчуа, Майлакрус и убили 69 человек. При этом основными жертвами маоистов стали именно крестьяне - ведь крестьянская община несла непосредственную ответственность за убийство Куритомея. В провинции Ла Мар маоистами было уничтожено 47 крестьян, включая 14 детей в возрасте от четырех до пятнадцати лет. 
В начале 1980-х гг. Сияющий путь перешел и к тактике городской партизанской войны, включавшей в себя проведение террористических актов и диверсий в городах, организацию убийств представителей органов власти и политических противников. В 1983 г. боевики Сияющего пути взорвали линии электропередач в Лиме, полностью отключив электроснабжение перуанской столицы, и сожгли дотла завод «Байер». В том же году была взорвана бомба в офисе правящей Партии народного действия, затем вновь взорваны вышки линий электропередач. Бомбы взрывались у дворца правительства и дворца юстиции. 16 июля 1992 г. Сияющий путь взорвал бомбу на улице Тарама. Во время теракта погибло 25 человек, 155 горожан получили ранения различной степени тяжести. Был совершен ряд убийств активистов политических партий и профсоюзов, в первую очередь - представителей марксистских партий и групп, неодобрительно высказывавшихся о политике Сияющего пути и методах его сопротивления власти. 24 апреля 1984 г. было совершено покушение на президента национального избиркома Доминго Гарсиа Рада, в результате которого он был тяжело ранен, а его водитель убит. В 1988 г. сендеристы убили американца Константина Грегори из Агентства международного развития, в том же году - двоих французских рабочих, в августе 1991 г. - итальянского и двух польских священников католической церкви в департаменте Анкаш. В феврале 1992 г. жертвой политического убийства, совершенного сендеристами, стала Мария Елена Мойяно - лидер общины в трущобном районе перуанской столицы Лима Вилла эль-Сальвадор.
В 1991 г. Сияющий путь контролировал значительную часть сельской местности на юге и в центре Перу и пользовался симпатиями населения трущобных поселков вокруг Лимы. Идеология организации в этот период представляла собой маоизм, адаптированный к местным перуанским реалиям. Все существовавшие в мире социалистические государства рассматривались сендеристами как ревизионистские, против которых следует вести борьбу. Единственно верной идеологией провозглашался марксизм-ленинизм-маоизм. По мере роста власти лидера сендеристов Председателя Гонсало (Абимаэля Гусмана), идеология организации получила официальное название «марксизм-ленинизм-маоизм-гонсализм». Постепенно Сияющий путь превратился в фактически сектантскую организацию, лишенную поддержки большей части трудящегося населения и порвавшую отношения со всеми другими левыми группами и организациями Перу. Сияющий путь умудрился вступить в вооруженное противостояние не только с проправительственными крестьянскими формированиями «рондас», но и с Революционным движением Тупак Амару - второй по значимости в стране леворадикальной организации геваристской направленности (последователи Кастро и Че Гевары).
Жестокость сендеристов подорвала их популярность
 Утрата популярности среди крестьянского населения также обусловливалась чрезмерной жестокостью и сектантскими замашками маоистских партизан. Во-первых, сендеристы за малейшие провинности приговаривали на «народных судах» к побитию камнями, сжиганию, повешению и удушению, перерезанию горла. Одновременно они демонстрировали неуважение к обычаям и нравам индейского населения. Во-вторых, маоисты жестко регламентировали частную жизнь крестьянского населения, в том числе переходя к таким непопулярным среди индейцев кампаниям как борьба с алкоголем и запрещение вечеринок и танцев. Но еще большее значение для утраты популярности в крестьянской среде имела попытка практической реализации маоистского тезиса «деревня окружает город». Как известно, Мао Цзэдун предполагал, что в «третьем мире» революция приобретет форму крестьянской партизанской войны, которую «деревня» будет вести против «города» как средоточия эксплуатации и капитализма. Стремясь организовать блокаду городов голодом, боевики Сияющего пути запрещали крестьянам поставлять продукты на рынки Лимы и других перуанских городов. Но для крестьянского населения торговля продуктами сельскохозяйственного труда на рынках была единственным средством заработка. Поэтому маоистские запреты обернулись поползновением на материальное благополучие крестьянского населения, что побудило многих крестьян, прежде симпатизировавших повстанческому движению, отвернуться от него. Взрослые крестьяне практически не шли в боевые подразделения сендеристов, поэтому боевиков маоистское руководство вербовало из числа юношей, а то и совсем подростков.
Утрата популярности среди крестьянского населения также обусловливалась чрезмерной жестокостью и сектантскими замашками маоистских партизан. Во-первых, сендеристы за малейшие провинности приговаривали на «народных судах» к побитию камнями, сжиганию, повешению и удушению, перерезанию горла. Одновременно они демонстрировали неуважение к обычаям и нравам индейского населения. Во-вторых, маоисты жестко регламентировали частную жизнь крестьянского населения, в том числе переходя к таким непопулярным среди индейцев кампаниям как борьба с алкоголем и запрещение вечеринок и танцев. Но еще большее значение для утраты популярности в крестьянской среде имела попытка практической реализации маоистского тезиса «деревня окружает город». Как известно, Мао Цзэдун предполагал, что в «третьем мире» революция приобретет форму крестьянской партизанской войны, которую «деревня» будет вести против «города» как средоточия эксплуатации и капитализма. Стремясь организовать блокаду городов голодом, боевики Сияющего пути запрещали крестьянам поставлять продукты на рынки Лимы и других перуанских городов. Но для крестьянского населения торговля продуктами сельскохозяйственного труда на рынках была единственным средством заработка. Поэтому маоистские запреты обернулись поползновением на материальное благополучие крестьянского населения, что побудило многих крестьян, прежде симпатизировавших повстанческому движению, отвернуться от него. Взрослые крестьяне практически не шли в боевые подразделения сендеристов, поэтому боевиков маоистское руководство вербовало из числа юношей, а то и совсем подростков.
Вместе с тем, и меры перуанского правительства по борьбе с повстанцами выглядели в глазах населения чрезмерно жестокими и преступными. В 1991 г. президент Перу Альберто Фухимори легализовал деятельность «рондас», получивших название «комитетов самообороны», вооружение и возможность проходить подготовку в учебных лагерях перуанских сухопутных войск. В центральном районе Перу к середине 2000-х гг. дислоцировалось около 4 тысяч комитетов самообороны, всего же их количество в стране достигло 7226. Военнослужащие, полиция и «рондас» уничтожали целые деревни, заподозренные в поддержке Сияющего пути, не говоря уже об убийствах отдельных крестьян и членов их семей. В Ла Кантута и Барриос Алтос подразделением Службы национальной разведки была устроена настоящая резня крестьянского населения, приведшая к многочисленным жертвам. Однако жестокие методы правительственных войск привели и к определенным результатам.
Арест председателя Гонсало и упадок организации
Перуанские спецслужбы установили наблюдение за апартаментами над студией танца в Сургильо - одном из районов перуанской столицы Лимы. Руководство полиции обладало информацией, что эти апартаменты посещает ряд лиц, подозреваемых в причастности к боевым формированиям Сияющего пути. Полицейские старательно изучали любую информацию об апартаментах и их гостях, вплоть до анализа состава мусора, выбрасываемого уборщицей из апартаментов. Среди мусора были найдены пустые тюбики кожного крема, использующегося при лечении псориаза. Известно, что этой болезнью страдал никто иной как сам «председатель Гонсало». Полиция установила тщательное наблюдение за апартаментами. 12 сентября 1992 г. в апартаменты ворвался полицейский спецназ - группа специальной разведки GEIN, которой удалось захватить нескольких боевиков «Сияющего пути». Среди арестованных оказался и 58-летний гражданин Абимаэль Гусман Рейносо - лидер Сияющего пути, председатель Гонсало. В обмен на гарантии сохранения жизни Гусман обратился к своим последователям с призывом прекратить вооруженное сопротивление. Его приговорили к пожизненному заключению, которое лидер перуанских партизан отбывает на военно-морской базе на острове Сан-Лоренсо в районе Лимы. В 2007 году 72-летний Абимаэль Гусман, отбывающий пожизненное заключение, сочетался браком со своей давней боевой подругой и соратницей по партии 67-летней Елене Ипаррагуирре.

После ареста и осуждения председателя Гонсало деятельность Сияющего пути в Перу пошла на спад. Сократилась численность и количество вооруженных формирований маоистов, сжался масштаб контролируемых ими территорий в горных районах страны. Тем не менее, вооруженную борьбу организация Сияющий путь продолжает вплоть до настоящего времени. В 1992-1999 гг. боевыми действиями Сияющего пути руководил командир Оскар Рамирес, который впоследствии также был захвачен правительственными войсками. В апреле 2000 г. были захвачены командиры Сияющего пути Хосе Арсела Чироке по прозвищу «Орменьо» и Флорентино Серрон Кардозо по прозвищу «Кирильо» или «Далтон».
К началу 2000-х гг. Сияющий путь состоял из трех рот - роты Pangoa - «Север», роты Pucuta - «Центр» и роты Vizcatan - «Юг». По утверждениям руководства перуанских правоохранительных органов, данные подразделения сосредоточили свое внимание не столько на революционной деятельности, сколько на контроле за производством и экспортом наркотика коки. Тем не менее, и в XXI веке в Перу то и дело происходят террористические акты, за которыми стоят сендеристы. 21 марта 2002 г. был взорван автомобиль перед посольством США в Лиме. Погибло 9 человек, 30 получили ранения. Взрыв был приурочен к грядущему визиту в страну Джорджа Буша-младшего. 9 июня 2003 г. боевики Сияющего пути напали на лагерь рабочих, проводивших газопровод из Куско в Лиму. Маоисты взяли в заложники 68 служащих аргентинской компании и трех полицейских, охранявших лагерь. Спустя два дня маоисты выпустили заложников без получения выкупа. Только в конце 2003 г. в Перу произошло 96 террористических актов, жертвами которых стало 89 человек. Полиции удалось арестовать 209 боевиков и руководителей ячеек Сияющего пути.  В январе 2004 г. новый лидер Сияющего пути Флориндо Флорес по прозвищу «товарищ Артемио» (на фото), обратился к руководству Перу с требованием в течение 60 дней освободить всех находящихся в заключении высших руководителей Сендеро Луминосо. В противном случае партизанский командир угрожал возобновить террористические акты в стране. 20 октября 2005 г. Сияющий путь напал на полицейский патруль в Гуануко, убив восемь сотрудников полиции. В ответ 19 февраля 2006 г. перуанской полицией был ликвидирован один из самых опасных лидеров повстанцев Гектор Апонте, ответственный за проведенную засаду на полицейский патруль.
В январе 2004 г. новый лидер Сияющего пути Флориндо Флорес по прозвищу «товарищ Артемио» (на фото), обратился к руководству Перу с требованием в течение 60 дней освободить всех находящихся в заключении высших руководителей Сендеро Луминосо. В противном случае партизанский командир угрожал возобновить террористические акты в стране. 20 октября 2005 г. Сияющий путь напал на полицейский патруль в Гуануко, убив восемь сотрудников полиции. В ответ 19 февраля 2006 г. перуанской полицией был ликвидирован один из самых опасных лидеров повстанцев Гектор Апонте, ответственный за проведенную засаду на полицейский патруль.
В сентябре 2008 г. товарищ Артемио вновь записал обращение, заявив, что Сияющий путь продолжит сопротивление, несмотря на репрессии перуанского правительства и предпринимаемые полицейские меры. В октябре 2008 г. в Вискатане произошло крупное столкновение повстанцев с правительственными войсками, затем сражение между повстанцами и солдатами произошло в Хуанкавелика, где погибло 12 солдат перуанской армии. В 2007-2009 гг. продолжались нападения сендеристов на полицейские и военные патрули, конвои военных грузов. В результате повстанческих нападений регулярно погибали полицейские и военнослужащие, также повстанцы периодически убивали местных крестьян - участников комитета самообороны и заподозренных в сотрудничестве с полицией и правительственными войсками. 14 июня 2007 г. во время атаки маоистов погибли двое полицейских и прокурор г. Токаче. В 2010 г. в Корвине сендерист бросил бомбу, ранив сотрудника полиции. 12 февраля 2012 г. перуанским спецслужбам удалось выйти на след и арестовать Флориндо Флореса - «товарища Артемио», лидера Сияющего пути в последние годы. При задержании спецподразделением правительственных войск лидера повстанцев, происходившем в провинции Алто Хуаллага, считающейся центром производства кокаина в Перу, товарищ Артемио оказал вооруженное сопротивление и потерял руку. После оказания помощи, он был доставлен в тюремный госпиталь. Сменившему товарища Артемио на посту руководителя организации Уолтеру Диасу Веге удалось побыть маоистским председателем меньше месяца - в начале марта 2012 г. он также был арестован. В середине июня 2013 г. перуанский суд признал Флориндо Флореса виновным в терроризме, наркоторговле и отмывании денежных средств, обязав его выплатить компенсацию в 180 млн. долларов перуанскому правительству и потерпевшим.

Но и после задержания Флореса и Диаса Веги отряды повстанцев продолжили вооруженное сопротивление. Август 2013 года для повстанцев выдался особо неудачным. В столкновении с правительственными войсками, произошедшем на юге страны, погибли командиры повстанцев Алехандро Борда Касафранка по прозвищу «Алипио» и Марко Киспе Паломино, более известный под псевдонимом «Габриэль». Третий убитый оказался ближайшим помощником «товарища Алипио». В августе 2014 г. в департаменте Хунин проводилась операция правительственных войск «Эсперанса 2014», во время которой было освобождено девять человек - заложники, находившиеся в плену у сендеро луминосо. Среди заложников было и трое детей. Территорией максимального влияния повстанцев является провинция Вискатан, где простираются поля коки. Периодически базы повстанцев в Вискатане подвергаются обстрелам вертолетов правительственных войск, однако вплоть до настоящего времени перуанскому правительству, несмотря на все старания, не удается окончательно подавить партизанское движение в стране. В настоящее время центром деятельности повстанцев остается так называемый «Сектор V», в котором действует лагерь по подготовке боевиков и база тылового обеспечения. Ряды Сияющего пути стремительно молодеют - для службы в боевых подразделениях маоисты набирают детей и подростков из индейских крестьянских семей. Наблюдается все более плотная смычка коммунистических повстанцев с наркокартелями, действующими в горных районах Перу. Фактически, как и в Колумбии, после ослабления своего политического влияния на крестьянские массы, коммунистические партизаны не нашли иного выхода, как искать средства к существованию в наркобизнесе, выполняя задачи по охране плантаций коки и обеспечению ее транспортировки за пределы Перу. Наркоторговля дает значительные средства повстанцам и позволяет им снабжать вооруженные партизанские отряды оружием и боеприпасами. Продовольствие отбирается у местных крестьян, отряды самообороны которых не в состоянии оказывать сопротивление хорошо вооруженным бойцам «Светлого пути».
Согласно официальным данным, за годы гражданской войны в Перу, пик активности которой пришелся на 1980-2000 гг., погибло 69 280 человек. Виновными в 54% смертей перуанских граждан были названы боевики организации «Сияющий путь». Вместе с тем, одна треть от озвученной цифры погибла в результате действий правительственных войск, полиции и отрядов «рондас». Оставшиеся жертвы распределяются между мелкими партизанскими группами левой и правой направленности. За 1,5 % смертей, в соответствии с данными расследования, несет ответственность Революционное движение Тупак Амару. Тем не менее, говорить о прекращении маоистской «народной войны» в Перу преждевременно. Известно, что Коммунистическая партия Перу - Сияющий путь входит в маоистский интернационал «Международное революционное движение». Политическая практика сендеристов оказала влияние на формирование идеологии и практические действия маоистских повстанцев, сражающихся в других регионах планеты, в том числе в Южной и Юго-Восточной Азии.
Ctrl Enter
Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, подвоз оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские склады, нападать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать наши сёла и города, помогать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной Армии . (Из приказа Верховного Главнокомандующего И.Сталина)
Зверская расправа эсэсовцев в селе Малиновка
Шестнадцать месяцев находилось под пятой немецких мерзавцев наше село Малиновка, Чугуевского района, Харьковской области. Много горя и ужасов пережили мы во время оккупации. Гитлеровцы ограбили всё население, разорили наше колхозное хозяйство. Из Малиновки вывезен весь колхозный скот и весь урожай 1942 года, а также остатки урожая 1941 года. Наши общественные здания - школы, общежития, церковь, многие жилые дома - были превращены в конюшни, разрушены и опоганены.
Наши односельчане подвергались издевательствам, террору. 14 советских Активистов были схвачены немецкими жандармами и увезены сначала в Чугуев, а затем в харьковскую тюрьму, где содержались два с половиной месяца в нечеловеческих условиях. За время с 15 ноября 1941 г. по 10 мая 1942 г. немцы насильно эвакуировали из Малиновки всё мужское население за Донец. Молодежь от 16 лет насильно мобилизовали для работы в Германии. Многие юноши и девушки спаслись от мобилизации тем, что скрывались в других селах. Группа молодежи в количестве 50 человек долгое время скрывалась в селе Ивановка, но в конце концов все были пойманы и под конвоем препровождены в Малиновку, а отсюда - в Германию. В общей сложности из Малиновки, насчитывающей 1.800 дворов, было увезено в Германию более 800 девушек и юношей. Доходящие оттуда письма свидетельствуют об ужасной судьбе наших детей в фашистской неволе - их там бьют, морят голодом и изнуряют непосильной работой на предприятиях и на землях немецких кулаков и помещиков.
Немецкие захватчики глумились над мирными людьми. 1 мая 1942 года они запрягли группу советских граждан в пароконный ход и заставили, как скотину, тащить телегу, тяжело нагруженную песком. Гражданка Ткаченкова была повешена на площади села только за то, что она доставляла продовольствие своему угнанному за Донец мужу. Здесь же на столбе повесили больного Федора Проценко, якобы, за хранение оружия. Трупы не разрешали снимать 5 дней.
Но самые свои страшные преступления совершили гитлеровские негодяи перед отступлением из Малиновки. Мы видели, как эсэсовцы запасались крючьями-баграми. Зная, что приближается Красная Армия, мы догадывались, что эти крючья предназначены для ловли людей на улицах. И в самом деле, - в ночь с 9 на 10 февраля немцы начали обходить дома и вызывали из каждого дома мужчин якобы для работы. Многие не открывали дверей, не выходили на стук. Тех, кто выходил, немецкие солдаты здесь же во дворе приканчивали выстрелами в голову. Так были расстреляны жившие во второй, третьей, первой и седьмой сотне граждане нашего поселка: Чепель Илья Анисимович 60 лет, Загребельный Николай Петрович 58 лет, Юдин Иван Михайлович 35 лет, Перепилица Егор Романович 65 лет, Шуга Федор Захарович 85 лет, Тищенко Иван 32 года, Назарько Владимир Семенович 24 лет, Новицкий Николай 24 лет, Касьянов Григорий 55 лет, Кучерько 64 лет, Ищенко Иван Иванович 24 лет, Кучерько 65 лет, Старусев Виктор 12 лет, Кушарев Кирилл 45 лет, Славгорода Иван Дмитриевич 36 лет, Шевцов Тимофей 46 лет, Сердюков Алексей Логвинович 58 лет, Щербина Иван Васильевич 85 лет, Литовка Абрам Романович 58 лет.
Труп расстрелянного Шевцова, лежавший на дороге, немцы давили колесами автомобилей. В некоторые дома, где хозяева не открыли дверей, эсэсовцы бросали гранаты. Гражданин Полтавский Алексей Семенович долгое время отказывался выйти из дома. Немцы подвели к дому мальчика Виктора Старусева и заставили его вызывать Полтавского. Полтавский скрылся на чердак. Тогда в его дом были брошены гранаты. Мальчика немцы тут же расстреляли.
Кроме того, накануне отступления немцы истребили всех содержавшихся в поселке Малиновка советских военнопленных - около 160 человек. Красноармейцев расстреливали в помещении бывшего лазарета и по дороге на Чугуев.
Эти чудовищные преступления - дело рук солдат и офицеров эсэсовской дивизии «Адольф Гитлер», о чем мы узнали по надписям на рукавах фашистских убийц.
Мы, жители села Малиновка, призываем к беспощадной мести. От имени граждан нашего села клянемся с оружием в руках бить ненавистных фашистских захватчиков до полного их разгрома и уничтожения.
Жители села Малиновка
: Василий Буриков, Иван Гончаров, Федор Бондарь, Иван Недредо.
________________________________________ ________________
("Красная звезда", СССР)
И.Эренбург: * ("Красная звезда", СССР)
В РАЙОНЕ ДЕМЯНСКА
. 1. Большое кладбище немецких солдат и офицеров в селе Черный ручей. 2. Уничтоженная техника противника на улице Демянска.
Снимок капитана П.Бернштейна.

**************************************** **************************************** ****************************
Фон Кессель растерялся
Капитан Эбергардт фон Кессель из 168 артполка германской армии, аристократ и ценитель тонких вин, по своему духовному миру мало чем отличался от банального фрица. Страницы его дневника посвящены предпочтительно пищеварению:
7-9 . Печенка, чудесно приготовленная, и глинтвейн. Удачный вечер.
30-9 . Суп, курица, пуддинг, шампанское, водка. Вечером в штабе две бутылки коньяка.
8-10 . Изумительно зажаренный заяц, белое вино, кюммель. Три бутылки красного вина, две бутылки сладкого итальянского. Настоящий праздник.
11-11 . Всё было замечательно - суп, жаркое, овощи, суфле. Четыре бутылки вина.
18-11 . Ели во-всю. Бульон, дичь, чудесное сладкое из взбитых сивок, всё это в изрядном количестве. Кофе, много выпивки. Какой вечер!
3-12 . Баранина с индийским перцем и бургундское вино.
17-12 . Хорошо кушали и много пили. Вечер был очень удачным. Что было потом, не помню.
31-12 . Мозельское вино смешали с ромом и сильно размякли.
Так это немецкое животное паслось во всех кабаках Европы. В декабре Эбергардт фон Кессель попал в Бельгию и в Париж. В Антверпене он жалуется: «Девчонки только выматывают деньги, возвращаешься домой разочарованный». Этот скот очевидно хотел найти у антверпенских проституток сердце Маргариты. Впрочем, он быстро утешился: еще было что пограбить: «В Париже я выгодно обменял мои кассеншайны (боны) на франки. Купил хороший коричневый костюм из настоящего английского материала и костюм для Лизелоты. Чемоданы переполнены, их невозможно поднять».
Конечно, Эбергардт фон Кессель, как каждый немецкий скот, между двумя выпивками . Он, например, пишет: «Париж, действительно, неописуемо красив, и я понимаю, что фюрер хочет перестроить Берлин». Немецкий олух не понимает, что Гитлер способен загадить Париж, но не украсить Берлин.
Вскоре бравый немецкий капитан забывает об эстетике: его направляют в Россию. Он уезжает из Франции с тяжелыми чемоданами, с утомленным желудком и с некоторой меланхолией. Однако он продолжает верить в победу Германии. 22 декабря он приезжает во Франкфурт на Одере и там навещает знакомого генерала. Эбергардт фон Кессель пишет: «Генерал не изменился. Только он резко критикует наше верховное командование. Я надеюсь, что он неправ». Легкая горечь закралась в сердце капитана. 1 января он вздыхает: «Что принесет нам 1943 год? Конца войны не видать. Если бы только удалось в течение зимы удержать фронт и если бы весной у нас оказалось достаточно сил, чтобы наступать...».
21 января Эбергардт фон Кессель вылетел из Берлина. 23-го он пишет: «В Умани мы увидели карту, на которой обозначена линия фронта. Это породило еще более тяжелое настроение. Я встретил генерала фон Габленца. Он в отставке. Сюда он прибыл из Сталинграда. Его ответ ужасен: «Едва ли есть надежда...». Мой дорогой Альфред! Но нельзя терять надежду. Низкая облачность. Мы едва . Южный аэродром не можем найти. Дважды пролетаем над городом, хотя это запретная зона. Наконец приземлились на северном аэродроме».
Итак, до 23 января, после Сталинграда, Котельникова, Кантемировки капитан еще не догадывался об отступлении. Кое-что ему рассказала карта в штабе. Еще больше ему рассказали фрицы. 24 января он записал: «Мы ждем в Лозовой. Говорят, что следующий поезд пойдет 25-го в 16 часов. Из-за переброски войск всё движение приостановлено. Наконец поезд. Около 16 часов прибываем в Мерефу. Поезд расформирован. Нашел симпатичного начальника станции из Вюртемберга. Он мне сказал, что вечером пойдет поезд в Харьков. Набралось много солдат. Они все с Дона и хотят поехать в Харьков. Их рассказы не очень-то приятны: напоминает прошлую зиму. Кто знает, у скольких из них документы в порядке? В темноте мы не могли ничего проверить. С ними не было ни одного офицера. В 18 часов подали поезд на Харьков. Нетопленые товарные вагоны. Едем долго. В вагоне много итальянцев. На них лежит большая доля вины за наши неудачи. В Харькове пошел в казино. Пиво и водка. За моим столиком сидят два офицера, они рассказывают ужасные вещи об отступлении. Из Сталинграда также ужасающие новости. Мне кажется, что шестая армия . Печально. Бедный Альфред!».
25 января капитан еще философствовал - на этот раз его занимала не архитектура Парижа, а судьба германской армии: «Харьков большой, оживленный город. Автомобилей здесь больше, чем в Берлине. На улицах преобладают солдаты. Здесь можно бы обойтись без них. Они куда нужнее на переднем крае. Столько автомобилей здесь тоже ненужны. Беспорядок. С трудом я добился направления: ...».
На этом обрывается дневник Эбергардта фон Кесселя: вместо печенки и глинтвейна он получил русскую пулю. Я не стал бы говорить об его дневнике, не будь в нем последней страницы. Психика фрицев нам давно опротивела. Не всё ли равно, какие костюмы они крадут и с какими шлюхами развлекаются. Но есть в дневнике немецкого капитана нечто новое: воздух поражения. Вы видите опального генерала фон Габленца, который рассказывает первому встречному офицерику горькую правду? Вы видите немецких дезертиров, заполняющих вокзал Мерефы? Вы видите немецких офицеров, окопавшихся в Харькове за ? Вы видите беспечного жуира Эбергардта фон Кесселя, который вдруг начинает понимать, что его всемогущий фюрер - жалкий паяц и что прав был старый немецкий генерал во Франкфурте на Одере, издевавшийся над припадочным ефрейтором?
Листая дневник Эбергардта фон Кесселя, мы видим, как растерялись немцы, когда Красная Армия нанесла им удары под Сталинградом и на Среднем Дону. Гитлеру пришлось подтянуть свежие части, не пережившие разгрома. Враг надломлен. Враг не сломлен. Он еще не расстался с мечтой о победе. Но Красная Армия заставит и «новых» немцев из резервных частей пережить разуверение Эбергардта фон Кесселя. // . г. КУРСК.
РИББЕНТРОП В РИМЕ
.
Прочесывание итальянских резервов. Рис. Б.Ефимова

**************************************** **************************************** **************************************** **************************
От Советского Информбюро
*
Западнее Ростова на Дону бойцы Н-ской части атаковали немцев, укрепившихся на одной высоте, имеющей важное значение. В результате рукопашной схватки наши подразделения овладели этой высотой и захватили 3 орудия, 4 пулемета, 146 винтовок и автоматов. На поле боя осталось 180 вражеских трупов.
Юго-западнее Ворошиловграда наш разведывательный отряд ночью проник в расположение противника и взорвал 3 крупных склада боеприпасов. Во время этой операции уничтожено 70 гитлеровцев. На другом участке бойцы Н-ской части отразили атаку противника и истребили до роты немецкой пехоты.
Западнее Харькова наши войска продолжали наступление. Части Н-ского соединения заняли несколько населенных пунктов и уничтожили свыше 300 гитлеровцев. Захвачено 9 орудий, 15 пулеметов, много снарядов и патронов. На другом участке группа советских автоматчиков зашла в тыл противнику, укрепившемуся в населенном пункте, и внезапно атаковала его. Немцы отступили, бросив 4 орудия, много винтовок и склад боеприпасов.
Нашими летчиками в воздушном бою сбито 7 немецких самолетов.
Западнее Курска наши войска вели наступательные бои. Бойцы Н-ской части в результате упорного боя подбили и сожгли 10 немецких танков, захватили 3 орудия и другие трофеи. Взяты пленные. Огнем нашей артиллерии уничтожены 2 минометные батареи противника.
На Кубани нашими летчиками в воздушных боях сбито 11 немецких самолетов. Все советские самолеты вернулись на свои базы.
Группа партизан из отряда, действующего в Ленинградской области, ночью произвела налет на железнодорожный раз’езд. Советские патриоты перебили немецкую охрану, взорвали входные стрелки и железнодорожное полотно. Возвращаясь с боевого задания, партизаны взорвали железнодорожный мост. Движение поездов на этом участке прекращено.
На Кубани взят в плен лейтенант 10 румынской пехотной дивизии Николае Стан. Пленный рассказал: «В последние дни мы несли огромные потери от русской авиации и артиллерийских налетов. Когда немцы получили приказ итти в контратаку, меня вызвал немецкий капитан и приказал предоставить мое подразделение в его распоряжение. Я возразил, заявив, что имею приказ обороняться, а не наступать. В это время прибежал перепуганный насмерть немецкий унтер-офицер и сказал: «Русские наступают». Это было полной неожиданностью для всех. В один миг ни одного из немцев не стало, все они разбежались. Неприязненные отношения между румынами и немцами растут с каждым днем. Дело часто доходит до личных оскорблений, которые, ».
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в поселке Рогатое, Курской области: «Наш поселок немецкие захватчики оккупировали в октябре 1941 года. С тех пор мы находились словно на каторге или в тюремном застенке. Гитлеровцы принуждали крестьян работать день и ночь и обращались с колхозниками, как с рабами. Проклятые захватчики впрягали по два-три человека в повозки и заставляли перевозить тяжести. Тех, кто изнемогал и падал от усталости, пороли плетьми. Такого позора, таких унижений и издевательств, которым мы подвергались, не переживали наши предки даже во времена крепостного права. Фашистские изверги избили до полусмерти многих колхозниц и до нитки ограбили жителей поселка». Акт подписали жители поселка Клавдия Можарова, Анастасия Кононова, Мария Кононова и другие.
В Баренцовом море нашими кораблями потоплены транспорт противника водоизмещением в 8.000 тонн и сторожевой корабль водоизмещением в 800 тонн.
1 марта частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 100 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 18 артиллерийских батарей и взорван склад боеприпасов противника.
Западнее Ростова на Дону части Н-ского соединения продолжали наступательные бои. Наши бойцы, преодолевая упорное сопротивление и отражая контратаки противника, ведут борьбу внутри немецкой обороны. Уничтожено 8 вражеских танков, 18 орудий, 24 пулемета, 20 автомашин и истреблено до 600 гитлеровцев. Сбито 4 немецких самолета.
Юго-западнее Ворошиловграда бойцы Н-ской части, отбивая контратаку противника, подбили 2 танка и уничтожили до роты немецкой пехоты. В районе крупного населенного пункта полностью истреблен вражеский разведывательный отряд в составе двух взводов пехоты.
Западнее Харькова наши войска продолжали наступательные бои. Противник подтянул резервы и предпринял несколько безуспешных контратак. Боем установлена на этом участке 167 немецкая пехотная дивизия, только что прибывшая из Голландии. Бойцы Н-ской части, сломив сопротивление гитлеровцев, продвигались вперед и заняли крупный населенный пункт. В бою за этот населенный пункт противник потерял убитыми и ранеными до 400 солдат и офицеров. Уничтожено 3 немецких танка, 7 орудий и 6 автомашин. На другом участке части под командованием тов. Улитина окружили населенный пункт и после пятидневных боев овладели им. Гарнизон противника уничтожен. Захвачены склады с боеприпасами, продовольствием и другие трофеи.
Западнее Курска бойцы Н-ской части в результате решительной атаки овладели укрепленными позициями противника. Огнем нашей артиллерии разрушен ряд немецких дзотов, подавлен огонь минометной и двух артиллерийских батарей противника.
На Кубани наши войска вели наступательные бои и заняли несколько населенных пунктов. Подразделения Н-ской части в одном из этих населенных пунктов захватили 5 орудий, вещевой склад, склад боеприпасов и много различного пехотного вооружения.
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Минской области, с 1 по 20 февраля истребил свыше 100 гитлеровцев и захватил 6 пулеметов, 44 винтовки и 4 револьвера. За это же время партизаны пустили под откос 7 воинских эшелонов противника. Разбито 52 вагона с немецкими солдатами и вооружением.
Минские партизаны из отряда «Железняк» на-днях внезапно напали на крупную железнодорожную станцию. Бой за станцию длился несколько часов. Большая часть немецких охранников уничтожена, а остальные разбежались. Овладев станцией, партизаны взорвали железнодорожные сооружения.
Пленный обер-ефрейтор 1 роты 28 полка 8 немецкой егерской дивизии Леопольд Бишоф рассказал: «В 1942 году я служил в охранном батальоне в городе Барановичи. Этот батальон нес наружную охрану в тюрьме, концентрационном лагере и в лагере для военнопленных. Весной в барановичскую тюрьму прибыл транспорт польских заложников. Все они были . В начале мая только за один день было расстреляно 70 ксендзов, 18 женщин и 11 бывших офицеров польской армии. Казнь происходила за лагерем военнопленных».
В трехдневных ожесточенных боях в районе Горни Лапац югославские партизаны истребили 470 итальянцев и уничтожили танк, 16 автомашин, 8 тонн бензина и обоз 152 итальянского полка. Партизаны захватили 2 танка, 3 орудия, 5 минометов, 13 пулеметов, 100 тысяч патронов, 6 радиостанций и другое военное имущество. В районе Прозора партизаны продолжают преследование разбитых итальянских частей. // .
________________________________________ ______
("Красная звезда", СССР)**
("Красная звезда", СССР)
("Известия", СССР)